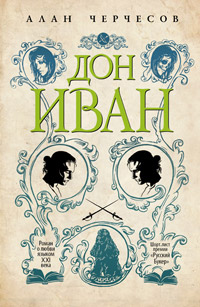Все герои в этом романе просто читают по ролям в случайном порядке один и тот же глубокомысленный монолог, полагает ВАРВАРА БАБИЦКАЯ
Имена:
Алан Черчесов
© Евгений Тонконогий

Алан Черчесов — писатель конъюнктурный. Не только в том смысле, что его роман «Венок на могилу ветра» получил Малую премию им. Аполлона Григорьева, что его
обласкал Андрей Немзер, что книги Черчесова
номинировались на все крупные русские премии, а сам писатель сделал впечатляющую международную литературную карьеру — его резюме включает даже такую экзотическую строчку, как «Участник международного писательского семинара Баптистского университета Гонконга». Но и в том, что место Черчесова в литературной систематике определить можно с большой точностью: он то, что сегодня условно можно назвать «изощренный стилист набоковской школы» — сюда же можно отнести, скажем, Ольгу Славникову и Сергея Самсонова. Писателя этого типа вычислить можно чисто арифметически, машинным методом посчитав частоту употребления слов «будто», «словно» и «точно» на страницу текста. Но и невооруженным глазом — стоит развернуть «Дона Ивана» в любом месте: «В холода отряжают яремнику драную бурку и скудельную пену овчины. Нутро согревает первак самогон. Потом как-то раненно, сбоку, из-под полы у раздатчицы-скуки, подползает к сараю весна. Осмелев, она тычет в прорехи неструганых досок отчаянным писком птенца, на который в груди отзывается клекотом плакса-надежда».
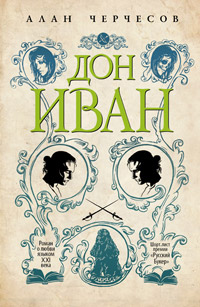
Очевидно, что на смысл приведенной цитаты никак не влияют контекст, жанр произведения, фабула, степень реализма — все это факторы глубоко второстепенные и могут варьироваться, одно неизменно: на страх клеветникам, давно уже объявившим о смерти автора, в романе изощренного стилиста набоковской школы автор не только живехонек, но и не терпит соперничества со стороны героя.
Герой нового романа Черчесова — писатель, который пишет роман о Доне Иване (он же — реинкарнация Дон Жуана, Фауста и Вечного жида в одном лице), который живет с писательницей по имени Жанна, которая пишет о нем роман. Речь писателя перемежается речью самого Дона Ивана, ведущего диалог с автором. У Писателя (назовем его так, с прописной, чтобы не путать с автором — Черчесовым) есть жена и друг, которые пересказывают роман друг другу и подсказывают Писателю, что писать дальше. Мир Дона Ивана населен куда более густо: помимо ожидаемой череды женщин и просто проходных персонажей там есть, например, как минимум еще один писатель. Вряд ли этот пересказ поможет читателю разобраться в той расписной матрешке, которую представляет собой система черчесовских персонажей, но в этом вовсе нет нужды: все они — отражения, тени и двойники друг друга. Трудно сказать, чем руководствуется автор, назначая очередного персонажа то двойником, то тенью, то отражением, но не будем придираться: если уж с Пушкиным, по его собственному признанию, Татьяна Ларина «удрала штуку» — грешно осуждать Черчесова, когда тот не может управиться с десятком взаимозаменяемых и бестелесных клонов.
Читать текст полностью
Дон Иван — подкидыш в советском детдоме, младенец-пикаро, страдающий приапизмом и еще в колыбели соблазнивший кормилицу, — «поглощал без разбору сказки, романы, стихи, не брезгуя скупостью пьес и занудством трактатов, непонимание которых ему не мешало — он словно подслушивал благозвучную иноземную речь: смысл не ясен, зато можно его сочинить в угоду своим ощущениям». Почти на каждой странице «Дона Ивана» можно найти подтверждение догадке, что в своем творчестве Алан Черчесов руководствуется тем же принципом.
Дело в том, что смысл и цель литературы любой изощренный стилист набоковской школы видит в наращивании объема сравнений и метафор. Язык завораживает его сам по себе, как конструктор, который можно собирать бесконечным количеством способов, надеясь, что в результате так или иначе сложится слово «вечность». Читатель, не являющийся адептом данной литературной школы, часто делает типичную ошибку, пытаясь разъять музыку, как труп, рациональным анализом. Возьмем, скажем, сцену из приютской жизни Дона Ивана, который вынужден купить молчание санитарки — свидетельницы его любовных похождений, — ублажив ее тоже: «Погашать обязательства было предложено мне в клетушке медперсонала. Как девушка честная, Любаша предупредила: “Я быстрая, но ненасытная. Придется тебе попотеть. На-ка, прими”. Опрокинув в меня стопку со снадобьем, пояснила: “Чтоб сердечко качало-качало, да не подкачало”. Потом плюхнулась на кровать и выудила коренастую сисю: “Ну, пострел, приступай!” Приступил. Отдавалась Любаша охотно и сразу, а в миг блаженства хлестала щеками матрац». Наивного читателя может смутить утверждение очевидного: странно было бы, действительно, если бы в предложенных обстоятельствах Любаша отдавалась неохотно, а перед этим долго упиралась. Читатель более прозорливый догадается, что ключ — в авторском словоупотреблении, и подыщет, пусть не без усилия, какое-нибудь неизбитое значение избранному автором глаголу; но есть случаи, когда воображение бессильно.
Вот уже повзрослевший Дон Иван оказался в Марокко: «Как и положено на променаде, женщины в нашей толпе доминировали. Спереди распознать их можно было по дерзким глазам, обжигающим из-под чадры, сзади — по хинным узорам на щиколотках». «Доминировали» — значит, положим, «преобладали» — коряво, но допустим; но в каком смысле «распознать»? Видимо, сама по себе чадра еще ни о чем не говорит, но наш Дон Иван прямо Шерлок Холмс и женщину с мужчиной ни за что не спутает, потому что сразу смотрит на щиколотки — от него ни под какой чадрой не укрыться. Не стоит пытаться распутывать тонкости авторского словоупотребления, исходя из предположения, что в каждой фразе есть смысл — которого при ближайшем рассмотрении там чаще всего нет.
«Чтоб не заснуть, налегаю на кофе или жую апельсины. Я покупаю их тоннами, потом теми же тоннами жру». Символика апельсинов в романе Черчесова занимает важное место: но что нам, попросту, хочет сообщить автор о герое в этом предложении? Что события могли развиваться иначе — герой мог покупать апельсины одними тоннами, а жрать какими-то другими, или что он мог из каждой тонны сжирать по две штуки, а остальные выбрасывать? Почему было не написать «я покупаю и жру их тоннами»? У наивного читателя может сложиться странное впечатление, будто букеровский финалист и лауреат премии Аполлона Григорьева Алан Черчесов плохо знает русский язык.
В том сказовом стилистическом пласте — повествовании о ранних годах Дона Ивана, где коренится, так сказать, незабвенная сися, справедливо будет предположить, что «ютившаяся в подвале конура» или «гундосые сапоги» суть намеренные, художественно обусловленные стилистические находки. В конце концов, на таких пассажах, как «Вдругорядь кровью ссать будешь. Не опостыло бузить? Ну-ка, раззявь сюда пасть, я ее рванью затыкаю. Авось осмирнеешь» разнообразие регистров в перенаселенном как будто голосами романе Черчесова заканчивается. Пусть они заставляют вспомнить многочисленные пародии начала XX века на литературный лубок — скажем, повесть «Боярская проруха» у Аверченки о боярышне Лидии, которая «сняла с высокой волнующейся груди кокошник», — и никак не мотивированы сюжетно — они хоть веселят, и ладно, исполать, гой еси.
Но в том, что уже в наше время в совершенно не сказовом повествовании герой, например, «обувает мокасины», не прочитывается эстетический вызов. Не ощущается в этом факте формальный эксперимент или стилизация, хоть режьте. Согласно современному русскому словоупотреблению, обуть можно ребенка или лоха в темном переулке, а мокасины можно надеть, или автор должен привести очень убедительное объяснение, какой новый смысл в это проходное сообщение привносит безграмотность.
Это может показаться буквоедством, но мы говорим о писателе, чьи герои большую часть романного времени рассуждают о языке и для которого парадокс, построенный на каламбуре, — краеугольный камень творческого метода. Любая реплика в «Доне Иване» — это афоризм, законченная мысль, которая ничего не потеряла бы, будучи вырвана из контекста (хотя терять им, как правило, нечего — видите, это заразно). Попытки автора время от времени отойти от этого принципа хотя бы ради тех трех героев, которые по сюжету не являются плодами воображения Писателя, — его жены и друзей — и придать им индивидуальные черты и речевые характеристики вызывают чувство неловкости.
«“Что такого стряслось на стамбульском шоссе, что затрясло даже этого хрюнделя?” — осведомляется Мара с порога. Чмокнув в щеку Светлану, она щиплет меня за живот, вставляет в стакан букетик фиалок, извлекает из сумки кулек с апельсинами, сгоняет со стула вздремнувшего Герку и садится туда вместо мужа». Эту Мару мы видим в первый и последний раз. В романе она не играет никакой роли. Мы уже привыкли к обязательной манерности, с которой она не может ничего попросту спросить или достать, а только осведомиться и извлечь, — но зачем она проделывает все эти манипуляции? Единственно затем, что автору нужно время от времени занять своих героев какой-то суетой, чтобы придать им видимость жизни и создать таким образом реалистический пласт повествования. Поэтому все они все время чмокают, держат друг друга почему-то за мизинец, дергают за бороду или садятся по-турецки на пол, хотя в комнате есть диван.
Казалось бы, самый простой и безотказный способ облечь героя в плоть — это его речь. Но этим способом Черчесов пренебрегает. Вот жена Писателя рассказывает друзьям о приснившемся кошмаре: «Впереди бутылочным горлышком бездны зияет орущая дырка, куда, будто слякоть в прожорливый сток, засосет мои потроха. А когда их туда засосет, я пойму, что нет такой массы на свете, которой подавится пустота. Просыпаюсь я на краю — в полувздохе от бездны и в полусмерти от страха. Ощущение так себе». Все черчесовские матрешки — Писатель, его герои, герои героев и герои героев героев — просто читают по ролям в случайном порядке один и тот же глубокомысленный монолог о Жизни, Смерти, Любви, Времени и Вообще и только ради читательской немощи формально делят его на фрагменты какой-нибудь присказкой, маркирующей конец прямой речи: ну, там, «хоп? — еще бы не хоп!»; или: «ощущение так себе»; или, не мудрствуя: «такая вот жопа!»
Ощущение читателя к этому моменту давно уже так себе, но тут-то и становится понятно, что герои для автора — не только обуза, но и большое удобство. Они подбадривают читателя и друг друга — «Браво!», они вообще щедры на похвалу, называют друг друга гениями и остроумцами. Герой, чья репутация величия и демонизма создается устами других героев, — прием, старый как мир. Вспомнить хоть Достоевского, у которого люди твердят на все лады: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин»; «Это ли подвиг Николая Ставрогина!» — самому герою остается только пить чай и пожимать плечами. Но в отличие от легкомысленных предшественников Черчесов не предлагает читателю ничего принимать на веру, а тут же приводит текст любого «наколдованного гимна», «света и восторга на бумаге». Пока Писатель завершает очередную главу похождений Дона Ивана, его жена и друг подробно обсуждают, какие образы ему особенно удались. Сам Писатель иной раз проявляет похвальную скромность: «От этих листочков мне как автору лучше отречься» — а вместе с тем и хозяйственность: «Но как читатель я склонен за них постоять: начало забойное. <…> Если роман о любви, пусть уже будет любовница. Смазливая дама-прозаик, которой герой мой доверился после того, как ее соблазнил. Ей и спихнем всю цитату...» Дама-прозаик не останется в долгу за цитату: «Это же кладезь — герой-архетип, корневой культурный сюжет, продвигаемый анекдотичной твоей биографией, да еще и приправленный пошлостью века!» Это если кто не понял.
Когда герои с утра до ночи обсуждают устройство населенного ими произведения, его литературные и философские цели и языковые средства, не говоря уж про «первичный инстинкт читателя — потаенное желание бездарей надрать уши таланту», это дает автору возможность заранее парировать любую потенциальную критику. Вот, например, Дона Ивана умиляет неправильная русская речь его испанской возлюбленной: «Она путала падежи, тасовала колоду родов и словотворила из надерганных наудачу корней. Все, что я мог, — это не прерывать, не поправлять, не портить вмешательством правил хриплую музыку ляпсусов и умиляться, когда у меня на глазах “поцарапаться” превращалось в “испоцарапаться”, “босоножки” сапожились “сапоножками”». Не будем же портить вмешательством правил хриплую музыку ляпсусов: обуем сапоножки и пойдем дальше, ведь конец романа уже близок, а неизрасходованной мудрости припасено еще на троих Ларошфуко: «Лесбиянка — это, как правило, та же бисексуалка, у которой в какой-то момент сдали нервы. Точно так же, как бисексуалка — всего только женщина, которой в какой-то момент не сдали экзамен мужчины»; «Если радостный сон — это кража чего-то чужого, то счастливая явь — это кража себя у других».
Уже совсем под конец, на случай, если читатель все же недопонял, что хотел сказать Писатель, его близкие отбрасывают последние условности{-tsr-} прямой речи и зачитывают вслух по его черновику: «Все пойдет прахом, если не сделать упор на язык как на средство недостоверной коммуникации (достоверная возможна лишь в акте любви). Язык, как бы ни был он точен, извращает мысли и чувства и провоцирует непонимание. <…> За дуэлью их (Дона Ивана и его двойника. — OS) — автор и текст. Один сочиняет и лжет, чтобы добраться до истины, другой музицирует истиной, чтобы спрятать ее за шумом из слов и — спасти».
Как учит нас Козьма Прутков, «Три дела, однажды начавши, трудно закончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется». Я прибавила бы к ним четвертое: цитировать новый роман изощренного стилиста набоковской школы. Вот разве что напоследок: «Наслушавшись моря, я жалобно пукнул. Иногда так из нас выпархивает душа — словно заложница с черного хода темницы».
Алан Черчесов. Дон Иван. — М.: Астрель, 2012