Меня ведь просили писать литературный дневник. Но больно дни у нас в Квинсе жаркие – завтра обещали послабление, авось мозги обратно затвердеют.
По нашей просьбе современные литераторы и деятели культуры в августе – сентябре вели дневники. То, что у них получилось, можно будет ежедневно читать на OPENSPACE.RU
Разговоры о смене жанровой иерархии в современной прозе и о том, что подлинным «литературным фактом» эпохи, как это уже бывало в истории русской культуры, стал разнообразный non fiction, идут давно. Коллективный читательский опыт редакции подтверждает эти ощущения.Читать!
По обе стороны урагана, или Короткое замыкание
16 августа 2011
Попытался от руки вбить дату, не прибегая к компьютерной помощи, и механически начал год с единицы. Не знаю, как диагностировать, но имею подозрения, и ни одно из них утешительным не назовешь.
Третий год я живу в Квинсе, одном из районов Нью-Йорка. Для тех, кто немного знаком с литературной географией нового времени, это примерно там же, где обитал четверть века назад и занимался иммигрантской антропологией Сергей Довлатов, та же ветка сабвея, только чуть подальше. В отличие от Манхэттена или Бруклина жизнь в Квинсе плоская — в смысле этажей, но еще и в фигуральном: нет тамошних культурных пиков, но зато и экзистенциальных провалов. Народ просто ходит на работу, работа у многих в том же Манхэттене, многочисленному обслуживающему персоналу которого там жить не по средствам, а у нас здесь — собственный персонал, нижняя палуба «Титаника». Жизнь устроена очень удобно — если кому пришло в голову родиться, немного поработать и поесть, а потом умереть, то лучше не придумаешь (если, конечно, не айсберг): на каждом углу аптека, в промежутках — изобилие этнических ресторанчиков и закусочных, банки, конторы мобильных сетей, а чуть поодаль — роскошный еврейский дворец погребальных искусств, во дворе — нечто вроде строительной времянки с лаконичной табличкой Cohanim.
Эту часть Квинса — не мою, собственно, а довлатовскую — в народе именуют «Бухарестом», не из-за засилья румын, а из-за концентрации бухарских евреев. Мой парикмахер — бухарец, рядом такой же часовщик, был еще сапожник, но недавно его витрина опустела, то ли разорился, то ли ушел на покой — был мною опознан как русскоязычный, но вполне возможно, что айсор. Бухарцы, впрочем, лишь часть здешнего невероятного этнического коктейля, оценить который можно по списку жильцов моего дома, или в подвальной прачечной, или утром в дисциплинированной очереди на автобусной остановке. Очень широкая, хотя и не обязательно репрезентативная, выборка из народонаселения земного шара. Квинс — район по преимуществу иммигрантский даже в иммигрантском городе Нью-Йорке. Время от времени я получаю почтовые рассылки: то приглашения на встречу какого-то профильного кхмерского землячества, то инструкции по подсчету и уплате в суровых капиталистических условиях традиционного мусульманского налога «закат».
У себя на родинах, в полевых, так сказать, условиях, многие из этих людей на дух бы друг друга не переносили, а то и подвергали бы взаимным этническим чисткам, но в Квинсе уживаются прекрасно. И не то чтобы в такой тесноте не размахнешься занести кулак или нож, а просто деваться некуда, такова степень перемешивания, особенно у детей в школах. Чарльз Симик, он же Душан Симич, бывший поэт-лауреат США, в очередной раз посетивший обломки собственного балканского отечества, пишет, что в боснийском городе Мостаре, где знаменитый горбатый мост османских времен (взорванный во время войны, а затем восстановленный) соединяет мусульманский и хорватский районы, а точнее, разделяет их, многие хорватские матери запрещают детям ходить на мусульманскую сторону — в Квинсе это было бы равносильно запрету ходить в школу или просто выходить на улицу.
Всё, надо эти раздумья зачехлять, вскоре я отбываю в пенсильванскую глубинку, где в числе прочих развлечений предстоит сбор грибов. Если действительно состоится, попытаюсь предстать справедливым посмешищем.
17 августа 2011
Еще два слова перед стартом. Моего парикмахера зовут Жора. Я его не искал специально по лингвистическому признаку, просто уж так в Нью-Йорке повелось, что значительную часть парикмахерского дела перетащили к себе бухарцы, а Жора у меня прямо через дорогу. У него в салоне висит у зеркала, видимо из общего пиетета, портрет покойного хабадского ребе Шнеерсона, которого считали мессией, но он умер — к счастью, мирной домашней смертью, а то у мессий работа нередко опасная.
У Жоры, видимо, нет, скорее скучная, клиентов маловато, порой я застаю его смотрящим телевизор или слушающим «Русское радио». Я для него некая загадка: человек в летах, но все время куда-то мотается, то в Киев, то в Тбилиси, то в Загреб, еле успеваешь его стричь. Я туманно намекаю, что журналист и летаю по делу, объяснить точнее значило бы вовсе запутать. Но чаще мы с ним обсуждаем погоду, причем в споры не вступаем, соглашаемся в ее оценке.
Когда я не хожу в парикмахерскую и не летаю в Тбилиси, я работаю, то есть пишу эссе для сайта, вполне известного тем, у кого достаточно любопытства. Последнее было о бегстве «очарования» из мира, покинутого Богом, некоторые мысли перехлестнули через край — припаркую их здесь.
Религией мы, как ни комически звучит, обязаны, судя по всему, второму началу термодинамики, благодаря которому энтропия несимметрично возрастает в одну сторону, которую мы называем будущим, и время в результате тоже несимметрично в разных направлениях. Одна смерть с нами уже случилась, но мы воспринимаем ее совершенно без страха, потому что помним многие подробности, хотя бы на подступах — это было наше рождение. Представьте себе, что время вдруг обернулось вспять и мы живем задом наперед (этот прием уже использован в литературе, — кажется, у Мартина Эмиса). Ужас вышел бы вполне зеркальным: сначала мы последовательно забываем всё, что знали, затем на нас нападает неконтролируемая похоть и начинается прогрессивное поглупение, после чего мы принимаемся нести нечленораздельную околесицу и ходить под себя. К счастью, финал этого нисхождения, «черная дыра», будет от нас скрыт за чертой окончательного идиотизма (но все живущие будут о нем знать), зато «настоящую» смерть многие будут хорошо помнить и никто ее не будет бояться. А вот с религией тут непонятно: куда деваются младенцы после того, как рассасываются в материнской утробе? И за что их, безответных, наказывать или награждать?
Почему мы боимся смерти? На самом примитивном уровне тут все ясно: мы должны успеть размножиться; умереть раньше — значит потерпеть биологический крах. А дальше рефлекс, который есть и у большинства животных, становится самодовлеющим и неуправляемым — он утратил свою прямую функцию, и эволюции уже незачем его поправлять. Вспоминаются неприятные деревенские сцены из детства: курице отрубили голову, а она еще продолжает бегать. Но можно придумать симпатичный трансцендентный курорт для кур, которым отрубили головы.
У растений страха смерти нет ввиду отсутствия функциональности такового, они могут выжить и в отрезанном черенке. Есть даже такие животные, но не очень высоко организованные, и мы не рвемся поменяться с ними местами. Мы ценим свою высокую организацию.
20 августа 2011
Случилась техническая пауза, выезжал к друзьям на природу, и все это время было отдано сбору грибов и их последующему потреблению в правильном гастрономическом ансамбле.
Грибы я собирал третий раз в жизни с примерными перерывами в 20 лет и понимаю в них мало, но никогда не подозревал, что они встречаются в природе в таких индустриальных количествах. В нашем случае удобнее всего было бы приходить с косой, хотя в лесу с ней трудно развернуться. Диковинный гриб, который мы собирали, Boletus regius, в определителях и «Википедии» аттестован как европейский, а в Америке едва обнаружен только в Калифорнии, и то не уверены в идентичности вида, а тут такое изобилие с неправильной стороны континента. Тайны, оказывается, хранят не только удаленные созвездия.
За этим буколическим занятием пропустил юбилей августовского путча, вспомнил только по возвращении, глянув в ЖЖ, где народ предавался реминисценциям, преимущественно печальным. Сам я провел те дни в Париже, в знаменитом сквоте Хвоста, а попал я туда по зову друга юности. Друг этот устроился фотографом в одну из тогдашних пятиминутных контор, что-то по поводу съемки кино, которую надо было непременно устроить в Париже, раз уж стали туда пускать. Но тут разразились Янаев с Крючковым, контора мгновенно куда-то испарилась, а выездной коллектив остался в Париже без денег и в неоплаченном отеле с экспоненциально свирепеющим хозяином. Питались консервами «Завтрак туриста» и водкой, но витаминов в такой диете мало. И тогда друг позвонил мне с просьбой спасти.
Первоначальные меры спасения свелись к тому, что я его накормил и сводил в сортир — в связи с платностью парижских публичных сортиров радиус его возможных вылазок из отеля был дотоле резко ограниченным, а тут перспективы резко расширились, и мы решили дернуть в гости к Хвосту. Там мы примерно сутки пили дешевое вино, а затем началось по телевизору, ЕБН на танке и свержение феликса. Это были эйфорические минуты: дети разных народов, богема в последовательных фазах алкогольной интоксикации и распада личности, толпились разинув рты у крошечного, по-моему даже черно-белого, экрана. Казалось, что все будет хорошо. По поводу того, как вышло на самом деле, я лучше сейчас изливать желчь не буду. Хвоста давно нет, друг ушел еще раньше — органическая депрессия, повесился, уже получив иммиграционную визу в Израиль. Друга звали Яков Шубин. Земля пухом.
22 августа 2011
Вчера с Витей Санчуком съездили на Брайтон, в заповедный край лотофагов, где нас, эмигрантов, привычно поселяет убогая фантазия некоторых российских недокритиков. Брайтон-Бич, чтобы было понятно, расположен на крайней юго-восточной оконечности Бруклина, а я, как уже было отмечено, живу в Квинсе.
Теперь там возникло неудобство, потому что на пляже, согласно новому городскому закону по инициативе нашего заботливого мэра, запретили курить, и для этого надо возвращаться на городскую улицу. Некоторые российские обитатели удивляются, как мы тут вообще ухитряемся сохранять приверженность пороку в условиях постоянных и все нарастающих репрессий. Однако вот живем же. К сведению: пачка сигарет в Нью-Йорке, обложенная непомерными налогами штата и города, стоит 13—15 долларов. В Пенсильвании, где я на днях был, еще можно купить за 5.
Поскольку этот дневник задуман, по крайней мере задан, как литературный, приоткрою один из секретов мастерства. Я не бросаю курить потому, что не могу писать без курения — не только стихи, но и все остальное, чем зарабатываю на жизнь. На меня нападает какая-то глупая ажитация, и мысли разбегаются в стороны. Это накладывает строгие ограничения на осуществимый объем работ, вряд ли я сумею когда-либо порадовать читателей пространной эпической поэмой.
Брайтон сегодня не тот, что был в зените, народ состарился, дети, получив образование, съехали. Но колорит кое в чем сохранился. Одна из виденных сцен: из одного магазина выходит покурить барышня и говорит другой, вышедшей по той же нужде из соседнего: «Ну и где твой дегенерат?»
Брайтон, впрочем, вовсе не карикатура, каким он может показаться некоторым заезжим гостям. Море здесь настоящее, жилье давно недешевое, но зато обилие замечательных зеленных лавок и магазинов с едой, без которой экспату не выжить: квасом и ряженкой, гречкой и семечками. Пожилой житель по одесскому (и гарлемскому, кстати) обычаю выносит на улицу складные стулья, сидит часами у подъезда и обсуждает проблемы мироздания, в основном медицинские. В забегаловки подешевле, где готовят вполне вкусно, можно приносить и распивать — своего рода рай советской мечты. Вспоминаешь московские пельменные времен царизма, где необходимость неукоснительной бдительности так отравляла дружеское общение на троих. Жить стало веселей.
23 августа 2011
Сегодня у нас было землетрясение, но я, как всегда, все прозевал — как раз в этот момент ехал в лифте, а лифт у нас винтажный, там всегда трясет балла на четыре, а их ровно четыре и было. То есть было 5,8, но это в эпицентре, под Вашингтоном, там эвакуировали Пентагон и Капитолий. В следующий раз постараюсь быть начеку.
Но вот как раз подвернулась литературная тема. Написал нечто с упоминанием телефона и неживых людей, и очень скоро кто-то указал на Мандельштама: «Петербург, я еще не хочу умирать...» Проблема: в какой степени Мандельштам запатентовал это сочетание телефона с покойниками? Это ведь даже не сюжет, а просто столкновение двух образов. И что тогда делать, допустим, с морем и чайками — никогда не упоминать их в общем контексте? Патент тут, похоже, у Бахыта Кенжеева, у него есть любимый тост: над морем летают чайки, выпьем за здоровье хозяйки. А дальше идет здоровье мужа хозяйки, кота хозяйки, дантиста хозяйки и ad infinitum.
У меня складывается впечатление (и я тут не об авторе этой конкретной реплики, а шире), что взгляды на «проприетарность», так сказать, приемов и поворотов в последнее время сильно ужесточаются не по каким-то ускользающе тонким причинам, а в силу скудости эрудиции и круга чтения, да мне уже и возраст диктует необходимость попенять на молодежь. Самый навязший в зубах пример — это дольник. Стоит написать что-нибудь дольником, и тотчас записывают в эпигоны Бродского, большей частью с целью уязвить, но некоторые с похвалой, что даже досаднее. Бессмысленно пускаться в объяснения, что дольник вполне функционировал и до Бродского: оправдываешься — значит, виноват. Бродский унес с собой наше право на дольник.
Я, кстати, сталкивался и с совершенно уже чумовыми взглядами, что, дескать, этот дольник есть часть пресловутого английского наследия в его творчестве. Видимо, кое-где еще читают переводы Киплинга, и они там не в коня корм.
Есть еще и мысли про верлибр, но сегодня, изнурен стихийным бедствием, буду ждать гуманитарной помощи, а про верлибр еще подвернется случай.
25 августа 2011
Вчера ехал в метро, и сидящая рядом женщина доставала из сумки крошечные кусочки чего-то и съедала. Вспомнилось стихотворение Лимонова про старика, который кушает творожок. Обычно такая мелкая физиология в публичных местах беспричинно раздражает, но в данном случае раздражение было оттеснено открытием: я присмотрелся и понял, что женщина ест попеременно цветную капусту и зеленый лук. Какой-то был, видимо, смысл в этой макробиотической диете, но я постеснялся спросить.
Кому землетрясения мало, тем обещают ураган. К нам он попадет уже на излете, обложенный сильными налогами; тем не менее, мэр Блумберг рекомендует парковать автомобили на холмах, а ценные вещи перенести на второй этаж. Внял рекомендациям радио и сходил в магазин за солью, спичками и крупой. Жалко, что у них там нет фасованного интернета, еще не придумали. Робинзон на своем острове был на годы отрезан от фейсбука. От спама, впрочем, тоже.
Еще выскочил в зеленную лавку на углу Kew Gardens Road, там они нарезанный арбуз продают, в жару душеспасительно. Они — это китаянка средних лет, та, что в этом году немного умеет по-английски в отличие от той, что в прошлом. Но сегодня ей было не до этого,
Читать!
Про верлибр так и плещет внутри, обрушивая берега, но еще потерпите.
{-page-}
26 августа 2011
Гуаву съел. Не спрашивайте.
Из съеденного есть еще изоляция на шнуре от Kindle'а. Я сперва подумал, что это какое-то естественное животное природы вроде мыши, но оно там хрупкое на ощупь и осыпается. Будет на что израсходовать лишние 20 долларов.
Читать!
Тут я, впрочем, отклонился, потому что нужно на самом деле эвакуироваться, а я не уверен, что у этих дачников даже есть радио. Говорят еще, что будут падать деревья и столбы электропередач, и это невольно навевает мысли о ближайших судьбах электричества. Зарядил все, что можно зарядить, в том числе обгрызенный Kindle, iPad, а телефон в текущем порядке. Есть свечка с ароматом лаванды, фонарики в ассортименте, даже передовой зеленый лазер, чтобы подавать сигналы проплывающим мимо сухогрузам. Холодильник — особая тревога. Там большие запасы мороженого, и что с ним делать — непонятно. Можно, конечно, быстро все съесть, но тогда надо сразу к врачу, а весь общественный транспорт грозят на время бедствия обездвижить. Хорошо еще, что есть прививка от пневмонии, должна вроде действовать.
Ну вот, сходил еще за последними покупками, в том числе шнур для Kindle'а (20, как в воду смотрел) но тем временем вырубились оба лифта, так мы не договаривались. Теперь я и впрямь как герой забытых детских книг про папанинцев там или ледокол «Седов», готов к зимовке.
Буря, скоро грянет буря!
27 августа 2011
Позвонил Кенжееву, но он на связь не выходит. Отчасти списываю на то, что он своим айфоном, будучи наслышан, какое это универсальное устройство, обычно плов помешивает, попробую еще попозже. Они там на океане с машиной, и вполне возможно, что дороги в Нью-Йорк сегодня будут забиты, по крайней мере с той стороны. А с другой стороны, в городе через час прекращается весь общественный транспорт.
Из ураганов хорошо помню московский, 1998 года, я как раз тогда прибыл из Праги и сидели вечером на кухне у Гандлевского, был еще общий приятель, впоследствии известный прозаик. Жара была совершенно невыносимая, мужская часть компании сидела уже без лифчиков, обливаясь потом и едва проталкивая внутрь алкоголь, а приятелю чуть не стало дурно, и жена обливала его в ванной холодной водой. И вдруг бабахнуло, мы даже несколько вспорхнули над стульями, и за окном стали наперебой валиться тополя. Один пополам передавил припаркованную соседскую «Ниву», наутро на ней была бумажка с надписью: «смотреть можно, трогать нельзя».
В 1998 году все было по старинке, где застигло, там и накрыло. Сегодня нас предупреждают, мы можем успеть забрать любимую собачку и фото Сары Пэйлин и укрыться у друзей или в муниципальном убежище. Впрочем, нас давно уже предупредили, что все умрем, а мы так и мечемся туда-сюда с собачкой и Сарой, и нет нам пристанища.
Я, однако, отверг приглашение разделить ураганное бдение с друзьями, и сижу вот, окружив себя аварийными припасами и врубив, по совету народа в ЖЖ, Третью Малера с Аббадо и Джесси Норман для правильного фона. Эта самая «Айрин» пока что обрушилась на Северную Каролину со стороны внешних островов, с самого крайнего, Окракока, вели репортажи, пока все не пали смертью храбрых. Этот Окракок я хорошо помню, я там был в начале 80-х, пляжи прекрасные, но комары величиной с шершня и такие же полосатые: сядет на тебя, моментально отпилит ломоть мяса и улетает с ним, больно. И дома все на сваях, им там не впервой. Может быть, ураган этим комарам нанесет урон, но я сомневаюсь. Они еще и грядущему моллюску дадут прикурить.
Я себе напоминаю одного давнего знакомого, у которого на все случаи жизни были припасены истории, только все они были о его армейской службе: а вот у нас в части... Только у меня нестроевая биография вместо армии, хотя наверняка многие сержанты совпадают.
Собственно говоря, не знаю, зачем мне поручили вести этот дневник. Все сижу и жду, когда скажу что-нибудь бессмертное. Выйти, что ли, на улицу и посмотреть, есть ли там жизнь? Ведь не ураганом же единым...
29 августа 2011
Гора родила мышь, то есть ураган по-настоящему не порадовал. Не то чтобы я желал зла ближним, но, если уж организуешь стихийное бедствие, надо позаботиться о спецэффектах. Попытался принять романтическую позу в ЖЖ, но бурного финала, которого требовала композиция, не вышло.
Бахыт тем временем, если читатель о нем еще помнит, вполне нашелся. Они там у себя на даче кротко ожидали отключения электричества и постепенно методом дедукции догадались, что надо сваливать. Этим фактом я как раз доволен, хотя к стихийному бедствию Бахыта не приравниваю.
Я понимаю, что мои вечные обещания поделиться раздумьями по поводу верлибра не зажигают глаза аудитории огнем нетерпения, но это, в конце концов, мой дневник, делюсь чем хочу. Похоже, время настало.
Верлибр плох тем, что от него нельзя умереть. Это я вспоминаю древнюю историю, которую некогда процитировал в одном эссе, Солон сказал про стихи Сафо: услышать и умереть. Может быть, слегка преувеличил, но непредвзятый человек поймет, о чем идет речь.
Насколько необходимы рифма и размер? Рифма на самом деле довольно экзотический атрибут, в европейских поэтиках возникла в Средние века и первоначально как отчетливо частушечный прием, хотя ее вскоре пристроили к более серьезному делу. А вот что касается размера, ритма, то он был неотъемлемым спутником поэзии во все времена. И если бы мы попытались объяснить той же Сафо, что стихи можно писать без ритма, она просто не поняла бы нас и наверняка спросила бы: а зачем?
Вот это «зачем» меня и мучает. Гораздо легче понять, почему, к примеру, живопись дрейфовала в сторону беспредметности, ее в свое время спугнула фотография, но в истории поэзии такого события не было. Я неплохо знаю англоязычную поэзию и могу догадываться, что произошло там: трехсложные размеры, ввиду краткости слов, звучат монотонно; исконное англосаксонское стихосложение, опирающееся на аллитерацию, отмерло много столетий назад. Остался ямб, преимущественно пятистопный, и лучший, на мой взгляд, поэт прошлого века Уоллес Стивенс постоянно колебался между ямбом и верлибром, но одного ямба два раза не высидишь. Интересно, что мы, по крайней мере люди моего поколения или ненамного моложе, очень дорожим своим XIX веком, клянемся Пушкиным и Баратынским, Тютчевым и Фетом, а вот в англоязычных странах он практически забыт, как неприятный сон. Я встречал людей, которые признавались в любви к Теннисону или Суинберну, но их было от силы три, а большинство с трудом припоминают, о ком, собственно, речь. А ведь были и гиганты, Китс или Вордсворт. Как бы то ни было, в русском языке объективных лингвистических причин для массового исхода в верлибр я не вижу, их в нем еще меньше, чем в немецком, откуда мы позаимствовали свою силлаботонику. И, тем не менее, о необходимости этого исхода многие твердят давно, а некоторые уже и вовсю блуждают по Синайской пустыне. И зачем вообще умирать от стихов, если у нас есть для этого птичий грипп и атомная война?
Что я отвечу на эти вопросы, вы узнаете из следующей записи, а мне самому пока остается только гадать.
30 августа 2011
У верлибра при советской власти сложилась репутация гонимого метода, и с этим, может быть, отчасти связана его постсоветская популярность. Но репутация эта во многом дутая: позволяли не всем, но многим, хотя я помню мало, разве что Солоухина, вот только зачем он вообще все это писал, ума не приложу.
Другим фактором было явно растленное влияние Запада, и это мне кажется неправильным, хотя в каком-то смысле неизбежным. А вот настоятельных внутренних причин, исходящих из самой логики развития русской поэзии, я не вижу.
Прежде чем анализировать дальше, хочу отметить, что я не делю стихи на верлибр и метрику, я их делю на хорошие и плохие, и эти две дихотомии не обязательно совпадают. Более того, поскольку выбор размера или его отсутствия для серьезного автора не случайность, а сознательное решение (хотя порой и просто инерция), я вполне допускаю случаи, когда иначе чем верлибром писать нельзя — у меня у самого бывали, хотя нечастые. Есть также примеры, где иной метод по прошествии некоторого времени трудно вообразить — у Рубинштейна, например, с его карточками, если для простоты условиться и их считать верлибром.
И тем не менее выбор между верлибром или метрикой — куда более радикальное решение, чем между ямбом и хореем, хотя бы потому, что обычно делается навсегда. И как в случае беспредметной живописи, всегда гложет сомнение в факте самого выбора: умеет ли он (она) рисовать? Должен признаться, что примеры, когда закоренелые верлибристы временами переходят на ямб, убеждают меня в том, что многие не умеют, а вот большинство художников так или иначе проходят курс рисования, хотя некоторые вскоре забывают выученное.
Кроме этого подозрения, у верлибра есть еще другие встроенные недостатки. Прежде всего, это отказ от отсылок к творчеству предшественников, от кумулятивности поэзии, которая до сих пор подразумевалась. Предшественники, как правило, приверженцы метрики, а метрическая цитата попросту не лезет в свободную строку, она всегда там висит криво. Не все, конечно, пользуются такими аллюзиями, но это в любом случае дает пищу подозрениям: а знает ли автор своих предшественников? Или он думает, что можно начать писать поэзию с пустого места, словно это тебе первому пришло в голову? В том, что такие проекты обречены на полный провал, у меня нет ни теоретических сомнений, ни недостатка в примерах.
Самое главное, на чем я, пожалуй, сегодня завершу тему (хотя далеко не исчерпаю), это необходимость осознать фундаментальный факт: верлибром писать гораздо труднее, чем традиционным стихом, хотя я уверен, что большинство сторонников верлибра уверены в обратном (но публично будут этот факт отрицать). Я когда-то придумал метафору, которая кажется мне верной и поныне: если уподобить форму стакану, а содержание воде, то метрическое стихотворение — эквивалент воды в стакане, а стихотворение, написанное верлибром — вода, которая остается стоять, когда стакан из-под нее убрали. Как-нибудь на досуге попробуйте.
1 сентября 2011
В городе, где я жил лет тысячу назад, была еврейская девочка Аня, моментально с тех пор узнаваемый для меня тип — что парадоксально, даже если лицо совсем другое. Но несколько лет назад видел одну в точности такую же, и даже зовут так же, прямо обожгло. Ту первую, тысячелетней давности, я встречал всего два раза, и уже не помню, откуда она взялась, и кто познакомил, и даже в чем там вообще было дело. И ничего ровным счетом между нами не было, потому что промедлил, а броуновское (теперь уже брауновское) движение в юные годы быстрее и разносит в стороны моментально, меня к тому же носило внезапнее и дальше, чем многих других. Но я почему-то отчетливо понимал, что если что-то начнется, то будет надолго и очень прочно, а я тогда сильно боялся такого надолго и предпочитал, чтобы быстро и эффективно, а это явно не светило.
Описывать эту Аню бессмысленно, я-то хорошо ее вижу в уме, а на словах выйдет глупо, она для описания не совсем годится, ее надо было почувствовать.
О чем я, собственно? От этого места в жизни ведет какая-то виртуальная ветка, которая с жизнью совершенно не совпадает. Я ничего не могу об этой ветке сказать, кроме того что она кажется мне странно аутентичной, аутентичнее даже, чем моя тогдашняя реальная жизнь, которая с прошествием лет выглядит все менее настоящей. У меня вот, допустим, уже позднее была невеста, я ее любил, и мы даже подали заявление в загс, но жизнь раскидала. Сегодня я отчетливо помню эту невесту, но именно как часть прошлой жизни, которая неуклонно теряет реальные очертания. Не вышло ли так, что вся моя последующая жизнь, которой я в целом удовлетворен, была просто проигрыванием отвергнутого варианта в какой-нибудь вспомогательной вселенной, то есть в этой нашей с вами? И не может ли так случиться, что настоящий я в основной вселенной, проживший настоящую жизнь, не так уж ею и доволен? Если бы эти мысли были чуть умнее, они были бы совершенно тривиальными, а вот в таком наивном варианте очень меня трогают. И еще: хотелось бы все это описать в стихах, но совершенно не знаю, как об этом написать, потому что сюжета нет категорически. Хотя иногда к этой территории приближаюсь, но относит все то же брауновское.
Эта Аня, если я правильно угадываю траекторию, тоже должна была впоследствии уехать, и живет теперь где-нибудь в одной из легко угадываемых стран. Интересно, есть ли у нее в голове гвоздь, подобный моему, — это было бы уже слишком.
Вот тут вспомнил одну колоритную деталь: нас познакомил общий приятель, впоследствии сдавший меня в ГБ. Но к самой истории это отношения не имеет.
2 сентября 2011
Я однажды уже предпринимал попытку втиснуть жизнь в сюжет и навязать ей смысл, в книге неопределенного жанра «Эдем». Но вот есть сюжеты, которые в наличную жизнь не втискиваются, и как их прикажете излагать? Все как бы правильно и можно пощупать, набор обстоятельств и героев налицо, но ничего между ними не происходит, похоже на картинку на суперобложке, но сама книжка не открывается, страницы спаяны в сплошную целлюлозную массу. Навязывать свой смысл, выжимая его из картинки, здесь не хочется, хочется заглянуть в сплошную целлюлозу, но там и с лупой ничего, кроме опилок, не увидишь. Эпизод, который я привел вчера, даже не иллюстрация, а иллюстрация к иллюстрации.
Болеслав Лесьмян, один из тех, кто так повредил мне мозги в юности, бился в своем творчестве над проблемой, которую я бы назвал «недосуществованием». Мир, который он описывает, исходит от реального как некая эманация, испарение. Меня уже тогда занимала возможность пойти дальше, занять позицию, в которой эманация и была бы точкой отсчета, а от реальных организмов и падающих на них кирпичей можно было бы отвлечься. Поскольку намерение было и стихи худо-бедно писались, я положился на кривую, которая вывезет, хотя слабо себе представлял, куда именно. Но она не вывезла, и, когда я бросил писать стихи (на 17 лет, как впоследствии выяснилось), одной из глубинных причин была как раз эта неудача. С тех пор как я вернулся к этому занятию, я пытаюсь преследовать поставленную цель более осознанно, хотя придавать осмысленное направление иррациональному процессу нелегко.
В свое время У. В. О. Куайн дал отпор сторонникам многозначности термина «существование», он уподобил эти взгляды бороде Платона, притупляющей лезвие Оккама. Поэзия хороша тем, что она может поднимать с земли черепки, выброшенные философом, и сооружать из них мир, не обремененный правдоподобием. Поэт, не верящий в существование Бога, тем не менее вправе делать ему оскорбительные упреки, потому что в одном из возможных миров Бог существует и наломал там дров. Это, конечно, не всесильный Бог, потому что такой обладал бы атрибутом необходимости существования и логически существовал бы в каждом из возможных миров.
Идея «метасуществования» — вот что меня всегда подмывало противопоставить Лесьмяну. И не спрашивайте, что это такое, Куайн накричит.
Читать!
{-page-}
4 сентября 2011
День мертвых детей.
Почему-то мне запомнился именно этот день 7 лет назад, а не предыдущий и не первый. Уже с первого я был уверен, что все кончится кровавой баней, но, когда опасения оправдались, шок амортизировала работа, надо было сидеть у монитора и выполнять разные нехитрые задания. Работа, даже самая механическая, имеет терапевтические свойства; наверное, лесоповал эффективнее всего в этом плане.
Читать!
Я тогда жил в Праге, поделиться было не с кем, ЖЖ у меня еще не было, то есть негде и некому было даже закатить истерику. Я стал пытаться пристроить свое новорожденное стихотворение, но за столько лет молчания пропали все навыки и связи — связей, впрочем, никогда и не было, я не знал, что они нужны. Не понимая, куда сунуться, я вначале открыл аккаунт на «стихире» и сунул туда, но позже выручил Дима Кузьмин, вывесивший на «Вавилоне». Так началась моя вторая жизнь в литературе.
Почему нас так тревожит детская смерть, эта проблема Ивана Карамазова? Вряд ли дело тут в невинности, на которую столетиями никто не обращал внимания (хотя она постулирована в евангелии), а когда заметили, Фрейд быстро опроверг. И даже не в том, что детский ужас самоисчезновения безвыходен и безнадежен, все уловки мы придумываем гораздо позднее. На метафизическом уровне, явно доступном не всем, уязвляет тот факт, что едва выпавший огромный выигрыш в лотерее так и остается неоплаченным, сознание, едва отделившееся от небытия, вновь с ним сливается. Этот факт явно беспокоил богословие, по крайней мере католическое (у православного нет на этот счет никаких идей), в котором долгое время бытовала неофициальная идея «лимбо», временного питомника для детей, скончавшихся некрещеными, пока ее не дезавуировал несколько лет назад Ватикан. Теперь дети отправляются прямиком в рай («наслаждаются блаженным созерцанием», согласно официальной формулировке) независимо от того, крещены они или нет.
Ни во что из этого я, естественно, не верю, но воображаемая месть всегда слаще, чем реальная, и воображаемый суд тоже. Когда я думаю о суде над авторами Беслана, всеми авторами, я думаю именно о том суде, которого нет и не будет, а не о комфортабельных исправительных заведениях Гааги или Стокгольма.
Для того чтобы быть поэтом, надо иметь очень гипертрофированное воображение — техника необходима, но отдельно от воображения она ведет в сторону Брюсова, а воображение в отсутствие техники — в сумасшедший дом, вместе с Иваном. Мандельштам, если кто помнит его стихи, написанные до «Камня», начинал почти как Брюсов, то есть скорее даже Надсон, а в конце раздирал на себе путы формы, как персонаж античной скульптурной группы. Мандельштам подобно Сафо просто не понял бы «проблемы верлибра», пусть и по совершенно другим причинам. Интересно, что в России к поэту издавна прилип ярлык пьяницы (Аполлон Григорьев), а в англоязычном мире — безумца (Уильям Блейк).
5 сентября 2011
Искусство либо кумулятивно в том смысле, что созданное сегодня не аннулирует ценности вчерашнего, либо онo не является ценностью вообще. Те, кто хочет сбросить Пушкина с корабля современности (в самом общем смысле), во-первых, должны считаться с неизбежностью того, что сами будут сброшены без малейшего зазрения и довольно быстро, поскольку всё же не пушкины. А во-вторых, само слово «современность» крайне двусмысленное, так можно докатиться до мысли, что и история не кумулятивна. А если истории не знать, то докатиться совсем несложно.
Современность проходит, а за ней другая и третья, на моем веку их уже было не меньше. Есть ли у позавчерашней урок для сегодняшней? Вправе ли мы просыпаться, не помня, где и по какому поводу заснули?
Это я не кому-то конкретному адресую упрек, скорее эпохе, и не обязательно на русском материале. Книгопечатание жестоко подшутило над писателями, они сегодня гаснут, не успев просиять. В той же американской литературе в середине века была целая обойма прекрасных прозаиков — Уильям Гэддис, Джон Гарднер, Уокер Перси, Джон Чивер и т. д. Из упомянутых только Чивера переводили при советской власти, но это все равно что при Царе Горохе. Но и у себя на родине они в значительной степени канули в безвестие: упомянут вскользь в какой-нибудь статье в NYRB — и до свидания. Есть, конечно, библиотека американской литературы, где покойникам предоставляют твердый переплет, но там опять же только Чивер — издание, кажется, приурочили к выходу его биографии, представляющей особый интерес ввиду алкогольных и сексуальных приключений. Сол Беллоу спасся от этой реки забвения, но если благодаря Нобелевской премии, то вдвойне печально.
Все это, конечно, отражается и на практике переводов, особенно ввиду нацеленности нынешних российских издателей на ту же «современность». Можно, конечно, полагать, что современная американская литература — это Чак Паланик, Чарльз Буковски, Уильям Берроуз и Джек Керуак, но даже контркультура нуждается в культуре, чтобы оправдать свое название.
С такого корабля и сбрасывать ничего не надо. Он все равно галлюцинация.
6 сентября 2011
Вот уже несколько лет я пишу эссе на разные темы, и одна из главных, которые меня интересуют, — это мораль, ее эволюция и философское обоснование. И вот уже несколько лет, судя по всему именно за это, в интернете являются оппоненты и обвиняют меня в политической корректности. Пытаясь пойти навстречу, я не раз терпеливо объяснял разницу между моралью и политкорректностью и указывал на то, что последнюю я терпеть не могу, хотя неохотно признаю за ней некоторый смысл, но не больший, чем у прикнопленной на стене бумажки: «В подъезде не срать».
Но со временем я понял, что изъян не во мне и не в запутанном стиле моих объяснений, а в аудитории. Слово «мораль» для многих ее представителей просто лишено содержания — его опустошили при советской власти, у которой было вначале революционное правосознание, а потом его заменили моральным кодексом строителя коммунизма, приблизительным эквивалентом политкорректности. Сегодня государство жуликов и воров пытается прикрыть пустое место чучелом патриотизма, улица учит ненависти к чуркобесам, а церковь, которая в других обстоятельствах могла бы быть (и на Западе часто является) столпом морали, пусть и в примитивном ее понимании, занята апологией власти и борьбой с тем, что у нас ниже пояса. В результате даже люди, которых есть основание заподозрить в интеллигентности, выступают в защиту политкорректности, что производит не менее жалкое впечатление, чем борьба с ней во имя неизвестно чего.
Это вовсе не значит, что в России перевелись порядочные люди, но у них, видимо, отрубило рефлексию. Рефлексия, конечно же, не эквивалент порядочности, но она отражает факт существования проблемы, которая сегодня россиянам проблемой не представляется. Не так давно я беседовал с довольно неглупым и образованным постсоветским человеком, к тому же нажившим состояние сравнительно легитимным способом. Когда он спросил меня, в чем фокус моих интересов в жизни, ответ его немало позабавил — он сказал, что слово «мораль» для него из лексикона партсобрания.
Еще не так давно были люди, платившие морали своеобразную дань, освобождая себя от ее обязательств, их называли ханжами. Сегодня слово «ханжа» на пути к вымиранию, потому что лицемерить больше нет нужды, слово «мудак», не имеющее особых этических коннотаций, встречается в «Гугле» в 8,5 раза чаще.
12 сентября 2011
Несколько дней выпало, ездил в Монреаль. Теоретически можно было что-то писать в поезде, ползшем бесконечные двенадцать часов (автобусом шесть), но летаргия могла оказаться заразительной для тех, кто еще и так не уснул над этим чтением.
Неожиданно нашел новую платформу для продолжения затеянной здесь дискуссии. Сидя в монреальском баре, беседовали с NN, который гораздо глубже моего погружен в американский литературный дискурс. Мы с ним фактически начали этот разговор десяток с лишним лет назад по электронной почте, когда обсуждали английские стихи Бродского и его попытку взломать нынешнюю господствующую поэтику и навязать ей иностранные правила — попытку, как мы тогда оба согласились, неудачную, сегодня эти стихи либо вежливо игнорируют, либо открыто ругают.
Интересно при этом, что не ругают, допустим, хайку, хотя форма, нынче весьма популярная, заимствована из куда более далекой поэтики, но это как раз и понятно, а вот русское и английское стихосложение куда ближе, и отсюда контаминация.
Но я с тех пор изменил свою позицию — не то чтобы я считал, что нужно соваться с русскими достижениями, но уверен, что многие собственные английские несправедливо отсечены. На это мне NN, выступая как бы от лица воображаемого авторитета американской поэзии, ответил вот что: да, мы отвергли рифму и размер, потому что для нас важнее всего на данном этапе «ускорение смысла», и вот этим мы и занимаемся. Уж не помню в точности, что ему сказал я, но сказать мог видимо примерно следующее. Ускорение смысла — термин туманный, напоминает словарь современной французской философии, и за какой плавник ни ухвати, может увернуться, тогда как метр и рифма — вещи очевидные, либо ноль, либо единица. Не говоря уже о том, что смысл ускоряют уже битые полвека, и результаты должны быть наглядными, как в том коллайдере, а они по-прежнему сомнительны, и сказать, что в чем-то превзошли Одена или Уоллеса, трудно.
Даже не споря с этой теорией, можно задать естественный вопрос: а зачем, собственно, было отказываться от наследия? Разве нельзя было бросить крупную бригаду на ускорение смысла, но оставить отряды для арьергардных операций, а через те же полвека сравнить результаты работы? Ведь не верлибр стоит костью в горле, а повальный конформизм.
На это NN, который собственно прозаик и не может нести ответственности за другие роды войск, предложил в свой следующий визит в Нью-Йорк устроить мне встречу с реальным, а не воображаемым корифеем и посмотреть, какие плоды принесет наш диспут. Не очень верю, что все это состоится, но допросить было бы неплохо.
13 сентября 2011
Я помню в юности, когда история КПСС стояла поперек горла (а я, учившийся последовательно на трех разных факультетах, принес ей в жертву всю печень), я туманно мечтал бросить все и всех и работать где-нибудь смотрителем маяка, читать себе и писать, а в нужный момент подниматься на башню и умело крутить рычаги, пронзая туман бесконечным лучом, как какой-нибудь герой Саши Соколова или их автор, о котором я, впрочем, тогда не знал. Что-то вроде этого и сбылось теперь, я даже на острове (Квинс расположен на юго-западной оконечности Лонг-Айленда), обитатели ближайшей большой земли, т. е. Манхэттена, в данный момент разъехались, а здешние — вроде декорации, я никого из них не знаю. Вот только насчет бесконечного луча не уверен. Жизнь забавная штука — сбывается практически все, чего ни пожелаешь, только так криво и безнадежно, что лучше не надо. Это не нытье, если кто подумал, а искра мудрости.
Сегодня у нас были сверхсрочные выборы, на которые я послушно сходил. Выбирали конгрессмена взамен предыдущего, который ненароком продемонстрировал эрекцию в открытом твиттере и был вынужден отдохнуть от политики. И что только у этих политиков делается в голове, уму непостижимо. То есть надо писать не «у политиков», а «у людей». Все вроде у человека складывалось прекрасно, впереди была блистательная карьера, и конгрессмен ведь был неплохой, но в какой-то момент внутренний голос велел ему заснять в зеркале собственную эрекцию и доверить ее открытому твиттеру. И пока вселенная не погибла тепловой смертью, этот электронный образ минутной похоти и идиотизма будет мчаться во все ее концы, и хорошо еще, если мы во вселенной одни, а то наверняка оказалась бы какая-нибудь печальная и вдумчивая цивилизация, которой мы предстали бы как изображение трусов, кокетливо вспученных эрегированным шкворнем. И почему-то мне сейчас за нас уже не стыдно, разве вдумчиво и печально. Вспоминается разве что надпись, уцелевшая на стене какого-то ископаемого римского сортира: Caius hic cacavit bene. Человек и его место в истории.
И если бы был, допустим, рай и вечное блаженство, у нас на протяжении этого блаженства было бы достаточно досуга, чтобы вспомнить самые мелкие свои движения и помыслы, в том числе как мы стояли в трусах с цифровиком у зеркала и ловили нужный момент. А поскольку вечность делится на части, каждая из которых тоже вечность, можно до конца времен простоять в этой позе. Неизбежно фактически.
И не стыдно мне? Меня ведь просили писать литературный дневник. Но больно дни у нас в Квинсе жаркие — завтра обещали послабление, авось мозги обратно затвердеют.
14 сентября 2011
Уж коль скоро разговор зашел о вечности, давайте под конец еще немного о ней, в порядке небольшой провокации в отношении моих верующих друзей. Сегодня не очень модно рассуждать об аде и рае, по крайней мере в просвещенных религиозных кругах, все эти сковородки со смолой и музицирование на арфе плохо вяжутся с образом всеблагого Бога. Официальный католический термин, как я недавно узнал, — созерцание блаженства. А поскольку после смерти смерти не бывает, то созерцать его придется вечно. И с этим я бы даже не спорил, ничего дурного в блаженстве не вижу, вопрос лишь в том, кто именно будет созерцать, кто будет этот «я» или «ты» в вечности, предстоящий перед ликом, что случится с этой крохотной и конечной личностью.
Я здесь попытаюсь построить некоторую отрицательную теодицею — тем, у кого от богословия и метафизики болит голова, рекомендую пропустить.
Личность, по крайней мере та, которая есть у меня, идентифицирует себя как нечто, способное совершать поступки, которые, в свою очередь, представляют собой результаты волевых актов. Поступки бывают разные — можно спасти утопающего, можно нацепить шахидский пояс и отправиться в торговый центр, а можно просто что-нибудь подумать, хорошее или плохое, это тоже поступок, Иисус говорил о похотливых мыслях при виде женщины как об акте прелюбодеяния.
Поступки мы совершаем на основании свободного выбора, без этого христианская (а также иудейская или мусульманская) нравственная доктрина рухнет, нельзя награждать или наказывать человека за отсутствие предоставленных ему вариантов, это все равно что наказывать или поощрять упавшее на голову яблоко. Человеческий выбор практически всегда является нравственным, церковь даже невинное обжорство зачислила в смертные грехи, и мы обычно выбираем между степенями добра и зла. Но почему в мире, который создал такой добрый Бог, существует зло? Нам отвечают: ради вот этой самой свободы выбора, иначе не за что награждать и не за что наказывать.
Ладно, согласимся. Но тогда выбор существует только на протяжении земной жизни, крошечной начальной точки вечного существования, а на протяжении всей вечности его нет. Человек, созерцающий блаженство, не может помыслить о зле, иначе мы имели бы дело с нелепостью: получай вечное блаженство, а сам делай что хочешь, приговор уже не изменится. Можно ли в раю кого-то ограбить или изнасиловать? По определению нет. Стало быть, в раю нет выбора, нет личности и нет человека. Никакой поступок в раю невозможен, даже игра на арфе, потому что немыслим волевой акт, без которого эту арфу не то что не настроишь, а даже в руки не возьмешь. Или она приклеена?
Тут уместен вопрос: с какой стати добрый творец, сулящий нам вечность, натянул у самого старта невидимую проволоку, о которую многие из нас спотыкаются и лишаются доли в блаженстве? Если нам так уж необходимо зло ради свободы воли, почему мы затем проведем целую вечность без того и другого? Интересно, что в аду проблемы нет, там грешники на сковородках вопиют к Богу, а стало быть, выбирают добро. Вот их и надо награждать, хотя бы месячными путевками в рай, полной анестезией воли и личности.
Есть, конечно, варианты, в которых эти парадоксы снимаются: существование злого Бога или просто бестолкового, с ограниченными дарованиями. Но мы предпочитаем верить в хорошего, хотя и логически невозможного.
15 сентября 2011
По какой-то надобности залез в «Амазоне» на страницу «Радуги тяготения» Пинчона. И там сверху надпись: «Вы приобрели эту книгу 11 марта 1997 года». Действительно, приобрел — вон она стоит на полке. Есть места, где о нас помнят больше, чем мы сами.
Уверен, однако, что вот это немногие помнят: до «Амазона», и даже до всемирной паутины, был другой книжный магазин, Powell's, настоящий пионер торговли в интернете. Интернет был тогда черным экраном с зелеными буковками, и я был одним из первых онлайновых покупателей.
Это я просто демонстрирую, каким я был продвинутым динозавром средних лет, видимо, в тайной надежде снискать уважение аудитории. Но проект наш подходит к концу, и пора сказать что-нибудь веское. Но у меня если и получается, то лишь изредка в стихах, а в прозе я теперь обычно впадаю в философию или в политику — от политики на этот раз все же почти уберегся.
Зачем пишут стихи? Этот вопрос в принципе надо задавать в первом лице, потому что разные люди пишут по разным мотивам, и твой не обязательно совпадает с чужим.
Зачем пишут публичные дневники, понятно — в основном из тщеславия. Это ведь как зеркало, висящее перед лицом, раз уж оно есть, то не удержишься: то локон подовьешь, то козявку из глаза вынешь. Стихи когда-то писали по умолчанию, прозы просто не было: эпика предшествовала лирике, лирика была компактна и потому популярна — не надо разоряться на книгу, переписал или выучил наизусть. Именно популяризация прозы произвела в литературе эффект, сравнимый с тем, который фотография произвела на живопись: позиция «по умолчанию» была уничтожена.
На наивный, в том числе и мой, взгляд, прозаическая революция должна была ужесточить требования к поэзии, а не ослабить их, и так оно некоторое время и было — понятно, что я тут имею в виду не размер и рифму (кое-что из этого во времена Возрождения было куда изощреннее), а внутреннюю структуру, усложнение синтаксиса, умножение уровней абстракции, ускорение смысла даже, если угодно, но всерьез, а не понарошку. Поэзия, даже если она вернется к эпике, не в силах тягаться с прозой в извивах изложения сюжета и выявлении психологии героя; она движется не в русле, а напролом, не током по замкнутой цепи с нагрузками, а коротким замыканием.
Но у поэзии есть один серьезный барьер на этом пути в отличие от изобразительных искусств — не то чтобы я был большим любителем современной живописи, но я вполне понимаю ее эволюцию. Этот барьер — линейность, как и у музыки, и неслучайно судьба современной поэзии, то есть сужение аудитории практически до круга авторов, сходна с судьбой современной музыки. Изобразительное искусство имеет два или три измерения, по которым глаз волен отойти в сторону от точки недоумения. У стихов такой возможности спастись нет, мы обязаны ползти от первого слова к последнему — попробуйте себе представить стихотворение, по которому взгляд просто прыгает стохастически, как по полотну Джексона Поллока. И то же с музыкой, только у музыки линия пролегает во времени, а не в пространстве.
Мы уже знаем, каким образом выходили из этого тупика музыканты, хотя далеко не все: минималисты вроде Райха или Гласса, с одной стороны, или расплодившиеся сегодня беженцы в псевдоренессанс и псевдобарокко. Они просто повернулись лицом к публике, отказавшись от логики усложнения и абсурда. У музыки, свернувшей с пути в хаос, публика всегда будет, и кое-кто согласен идти с ней на компромисс.
Читать!
Так зачем мы пишем стихи? Сегодня на этот вопрос можно отвечать только в индивидуальном порядке, каждый за себя. Лично я — ради вот этого короткого замыкания. Если меня самого ударило током, есть надежда, что пострадают и другие.
Впрочем, я заболтался.
Ссылки
КомментарииВсего:12
Комментарии
Читать все комментарии ›
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 36584887
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9843198
- 3. Норильск. Май 1307259
- 4. ЖП и крепостное право 1122586
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911002
- 6. Не может прожить без ирисок 861656
- 7. Закоротило 843222
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 803632
- 9. Коблы и малолетки 776164
- 10. «Роботы» против Daft Punk 692515
- 11. Затворник. Но пятипалый 529029
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457022







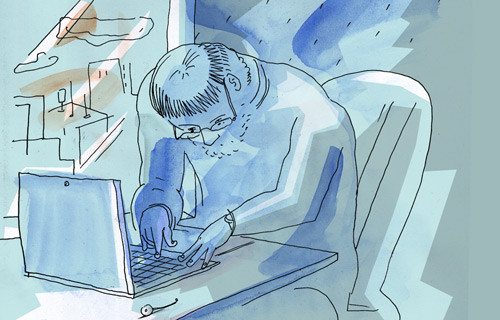



з.ы. хочу поделиться коротким замыканием. уж очень в тему:
сто лет вперёд,
сто лет назад
плывут в воде
как рыбы наши лица.
мы открываем рты и
закрываем снова.
мы знаем: есть свет,
есть тьма.
вода в глазах.
вода во рту.
мы - дождь.
мы - снег.
мы превратимся в пар.
и мы не признаём себя виновными.
стыренно отсюда: http://stihi.ru/avtor/stenja