После первой фиксации болезненного военного опыта в русской прозе наступает этап его осмысления и принятия травмы
Имена:
Марина Ахмедова
© Виктория Семыкина

Это не первая книга о Чечне, написанная лингвистом по образованию и спецкором «Русского репортера» Мариной Ахмедовой, часто бывающей на Северном Кавказе. Год назад у нее выходил «Женский чеченский дневник», книга с сильным автобиографическим элементом (героиня — фоторепортер на первой чеченской). Тем интересней «Дом слепых», где жизненные обстоятельства очевидным образом подверглись большей художественной рефлексии.
Первопроходцем по чисто формальному признаку Ахмедову, вообще говоря, назвать нельзя. Если говорить даже про женскую прозу о чеченской войне (так получилось, что две военные кампании слились в общественном сознании в одну), то можно вспомнить коллегу Ахмедовой по журналистскому цеху — Юлию Латынину. У последней ракурс несколько другой: во-первых, больше, скажем так, жанровости, а именно политического триллера с ощутимой примесью боевика. Во-вторых, Латынина живописует продажность большинства русских героев и брутальную красоту горцев, одновременно буквально смакуя жестокие сцены столкновений между ними; все это затеняет художественные достоинства этой прозы, даже если предположить, что таковые там имеются: Латынина в первую голову озабочена публицистическим посылом.
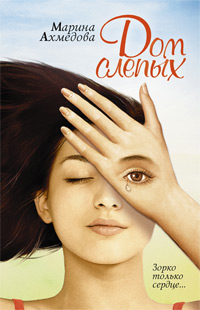
Авторами-мужчинами об этой недавней войне написано к нашему времени уже довольно много, часто сильно, но не сказать, что очень разнообразно. Превалирует автобиографическая проза. Такая жгучая реальность требует немедленного описания, и это более чем понятно. В 2001 году журналист Аркадий Бабченко получил «Дебют» за цикл рассказов «Десять серий о войне» — и он продолжает развивать эту тематику как в своих репортажах в «Новой газете», так и в прозе (например, очень сильная
подборка в «Новом мире» за 2009 год). «Новая лейтенантская проза» о чеченской войне стала, при всех вариациях, основным направлением: по-хемингуэевски мощные «Патологии» (2004) Захара Прилепина о службе в составе ОМОНа в Чечне; точные в деталях, но несколько пресные, как солдатский паек, «Чеченские рассказы»
Александра Карасева (2004—2005); яркие и даже иногда смешные «Письма мертвого капитана» Владислава Шурыгина (2005)…
Если говорить о более художественно отстраненном осмыслении войны, вспоминаются зловещие сполохи над стилистической икебаной «Венериного волоса»
Михаила Шишкина (2005) и
«Асан» Владимира Маканина. С последним текстом, впрочем, все немного сложно. Роман этот отличают не только фактические ошибки (дискуссия по поводу этого романа, в том числе с участием А. Бабченко, думаю, у всех еще на слуху), но и, кажется, художественная слабость, коренящаяся в некоторой его, романа, «умышленности» — не только деталей (в конце концов, у Толстого в «Войне и мире» тоже не все идеально, и спор о том, ловили ли в чеченских горах мобильные, сам по себе не очень продуктивен), но и того, как подана тема: «правильно», в духе «гуманизма» и старой доброй даже не советской, а классической литературы. Тема, однако, не только требует новых методов, но и слишком пока болезненна, чтобы писать о ней с высокой степенью отстраненности. В скобках добавлю еще, что тема войны вообще в последнее время актуализировалась — от Великой Отечественной в необычном
«Танкисте, или “Белом тигре”» И. Бояшова через афганскую в мускулистом «Победителе» А. Волоса до какой-то уж совсем метафизическо-вечной в «ЖД» Д. Быкова. А в том же
военно-литературном альманахе «Искусство Войны — Творчество ветеранов последних войн» можно найти рассказы и мемуары участников почти всех вооруженных конфликтов последних десятилетий…
Сюжет повести (можно, видимо, сказать и так, книга небольшая) «Дом слепых» по-беккетовски абсурден — слепые прячутся в подвале во время первой чеченской кампании, по ним из дома напротив то стреляет, то не стреляет снайпер, возомнивший себя Богом (при этом непонятно каким — мусульманским или христианским), а они беседуют о собаках, воздухе, молитве и, конечно, о том, как им не то что выжить, а хотя бы набрать дождевой воды на следующий день… Но никакого абсурда тут нет — то есть, конечно, есть, ибо сама война абсурдна, но история незрячих в Доме слепых (они так и пишут на стенах своего дома, надеясь отвести от дома пули и бомбы) — это прежде всего очень человеческая история о людях, а потом уж все остальное. Трое кое-как зрячих, семеро совсем слепых разной национальности (как говорит героиня Люда, раньше их делили по степени зрячести, сейчас пытаются разделить по «национальному признаку»), разного возраста — прежде всего люди. Они ссорятся (чеченка Фатима ворчит на Люду, чтобы та выгнала ее собаку Чернуху с щенятами, когда еды и на людей не остается), шутят, вспоминают, надеются и делают все, что люди делают в мирное время и (особенно) во время войны.
Читать текст полностью
Впрочем, текст книги не так прост, как может показаться. Очень женский нарратив слегка кокетничает, играет с читателем — и это, скажу сразу, отнюдь не раздражающая постмодернистская игра в «узнай цитату». Слепые в подвале из вечера в вечер развлекают друг друга, рассказывая сказку о том, как их заберет пришелец с другой планеты с двумя солнцами и воцарившимся — правильным! — коммунизмом (тут можно вспомнить вставные новеллы о посланце с другой планеты, который заберет туда героиню из взрываемой террористами Москвы, в «Эвакуаторе» Дмитрия Быкова и всю тему социального эскапизма, популярную в антиутопической литературе нулевых). Люди начали слепнуть во время войн, заявляет сказочный пришелец, и преследовать тех, кто еще что-то видит: тут слепота становится, как у Сарамаго, очевидной метафорой разделения (вспомним навязанное деление «по национальному признаку»). Героиня ворчит про себя, рассуждая одновременно о Фатиме, сбежавшем муже, собаке и своих женских болезнях, и это звучит как знаменитый поток сознания Норы в конце джойсовского «Улисса». Во время войны время останавливается и накладывает на лицо Люды все больше морщин — у войны, как известно, не женское лицо. Слепые, не дождавшись дождя, выходят, нагруженные баклажками, искать по незнакомому городу (привычные ориентиры снесены взрывами, зато появились новые выбоины и ямы от взрывов) воду, держась друг за друга, как на картине «Притча о слепых» Питера Брейгеля Старшего.
Книга вообще часто поворачивается разными гранями — то абсолютно реалистическим повествованием об ужасах войны (вдавленные бэтээрами в землю солдаты и объеденные собаками трупы в домах), то сказовым переосмыслением недавних исторических событий в духе книг Вероники Кунгурцевой, которая не только отправляла детей-героев в захваченный террористами Буденновск, но и признавалась как-то в интервью, что хотела в одной из книг о приключениях Вани Житного послать его на чеченскую войну. Да и сама диспозиция в замкнутом помещении, где оказываются вместе люди с физическими и духовными проблемами, наводит на мысль о богатой традиции — от «Декамерона» до «Дома, в котором…» Мариам Петросян (один из героев ее романа также слеп).
Стилистические игры, повторюсь, далеко не первостепенны в «Доме слепых», они скорее представляют собой приправу, которая разнообразит читательские ощущения, не давая нарративу стать слишком прямолинейным и излишне пафосным, как в упомянутом уже «Асане». Ведь притчи чреваты прямолинейностью, а книга Ахмедовой ближе всего именно к притче новых времен.
Эта притча — главным образом об отнятии, осуществляемом войной, о производимой ею пустоте (ведь и слепота — это прежде всего отнятие зрения, см. невозможность для одной из подземных героинь хоть раз в жизни увидеть собственную дочь). Пустоты всегда было много: «Квартира опустела до того, как Люда покинула ее. Пустота начала копиться после смерти матери. Умерла бабушка, пустоты стало больше. Появился муж, и Люда подумала, она прогнала пустоту. Но когда и он ушел, Люда поняла, что пустота никуда не исчезала, всегда была здесь, пряталась по укромным местам, не отдавалась эхом, но была. На роду ей, что ли, была написана пустота?» С войной количество пустоты увеличивается: даже в жажде (отсутствии воды) мерещится отнятие прежней полноты бытия: «В жажде у нее случался припадок суеверия — ей мерещился водный дух, который теперь наказывает ее за то, что лила воду впустую — в пустую мойку, в колено трубы, соединенное с нечистотами подземной канализации. Чистая, прошедшая один круг чистилища — из-под земли на небо, с неба снова на землю, — вода уходила в ржавое колено, не испачканная остатками с тарелок, уходила без пользы, впустую уходила вода». И, конечно, беды нового времени делают «полых людей» все более беззащитными перед пустотой: «Она не страдала, когда умерла мать, только чувствовала пустоту в себе и вокруг. Пустота всегда имела для Люды значение, не была тем, чего нет. Пустота была субстанцией невидимой, заполняющей собой все полое. А если заполняла, значит, была пустота, существовала. Нельзя ее отрицать лишь потому, что глазам она не видна. Люда очень хорошо чувствовала пустоту. <…> Люда помнит, как голосила, изливая с потоком своего голоса пустоту на весь мир. Но в том-то и особенность пустоты — нельзя ее излить. Если пространство в сердце больше ничем не занято, то пустота в нем бесконечна». Люда представляет себе отца пустотой, себя — дочерью пустоты и пыли, а свое сердце — коробкой для пуховок (так, можно сказать, переосмысляется английское выражение heart-shaped box, коробка в форме сердца). И это, кстати, вообще важная тема книги — соединение заточения и пустоты: Чернуха постоянно прячется в пустых шкафах, сами герои заточены в коробке подвала, где их трясет при взрыве, как «коробку с куклами», а сцена у гроба матери выглядит так: «Она сидела перед гробом, в груди давило, словно кто-то приложил к сердцу блюдце и нажал на него. Люда представила свое сердце. Сердце представилось круглым, похожим на блин, — пережаренное со всех сторон, с надорванными краями, маслянистое. Тогда она попробовала представить сердце матери, прикрыла глаза и увидела в груди у той вместо сердца пудреницу — черную коробочку. Мать приподняла в гробу руку, открыла коробочку, вынула из нее пуховку, повозила ею по спрессованному блину розовой пудры, махнула пуховкой, и пыль полетела, полетела».
Однако полной пустоты не бывает, отнятие всего дает что-то новое взамен. Мудрый (умерший лет десять назад) сосед Али, являющийся слепцам призраком, говорит: «У конца нет конца. Края у него тоже нет. Но <…> раз уж ты сама заговорила о конце, позволь, расскажу, что видел… Там, где кончается одно, начинается другое. Конец и начало — одна точка. Из конца вытекает начало, из начала — конец. Между ними нет ничего. Пустоты нет. Пустота живет только в человеке». Поэтому когда совсем пустеют внутри люди и жизнь вокруг них (новые площади образовались на месте кварталов после бомбежек), оживает неживое. Дом может позвать, вечер «не может пролезть в вентиляционную трубу», луна «ухмыляется», «дома и деревья не умеют оружия держать, они в войне не участвуют», «к речке лучше подходить с сетью и не ступать в нее босой ногой. Камень схватит слизью за ногу, потянет на дно. Ляжешь на камни, больно ударяясь спиной, а речка-буянша накроет тебя рябистыми пеленами, убыстрит течение и понесет вниз. Форельки станут отщипывать от тебя по кусочку и по ночам фосфоресцировать в мелких водах тобой» и т.д. Примеры можно множить еще долго, ведь даже «пространство их маленькой квартиры изменяется и расширяется, уходя в параллельные миры, в которых достаточно места, чтобы уместить все их вещи. Так и должно быть — у людей свой мир, у вещей — свой».
Человек гибнет, но зато вещи оживают и сливаются в какой-то не сказать гармонии — скорее в первобытном родстве. Это случается в трудные годы, на сломе эпох — вспомним, как у Платонова оживали вещи, одухотворялись животные, человек чувствовал родство с паровозами, приникал бедной щекой к травинке и грел голодную черепаху в пустыне «Джана». Так и тут: «Время все изменило — оно обрабатывало людей, и они теряли прежнюю форму, делались похожи один на другого. Словно куски глины, время месило их и закидывало в топку, чтобы там до конца закрепилась и оформилась их новая бесформенность». Все возвращается к своим прасущностям, включая животных: отведавшие трупов бродячие собаки становятся волками («а ее щенки хотели пить Людину кровь из вымени своей оволчившейся матери. В этом разрушенном городе все возвращалось на круги своя — собаки снова становились волками. Так человеку и надо»), а защищающая хозяйку от снайпера Чернуха оказывается праматерью всех собак…
Меняются ли люди? Это более сложный вопрос. Во всяком случае, в людях становится больше смирения, больше мыслей о Боге (и надежд на то, что он, зрячий, видит их, несмотря на разные вероисповедания), больше приятия.
{-tsr-}Этим, пожалуй, ограничивается весь «гражданский» и «художественный» пафос «Дома слепых» — и это хорошо. Хотя, конечно, камерность книги — тихой, пригодной, если говорить в кинематографических терминах, для экранизации Звягинцевым, но никак не Михалковым — делает ее судьбу более сложной: вряд ли «Дом слепых» прочтут многие, вряд ли его будут обсуждать с пеной у рта в интернете и вряд ли наградят литературной премией. Между тем у Ахмедовой есть то, что важнее гражданского пафоса, а именно рефлексия даже не о войне (она служит здесь скорее фоном), а о человеке: об очень простом человеке в сложных и одновременно простых обстоятельствах. Такой экзистенциальный подход говорит об отрадной с точки зрения литературы вещи: после первой фиксации болезненного военного опыта (Бабченко, Прилепин), после первых неуклюжих попыток рефлексии над ним (Маканин) наступает, судя по всему, этап вдумчивого осмысления опыта войны — и его приятия.
Марина Ахмедова. Дом слепых. — М.: АСТ; Астрель, 2011


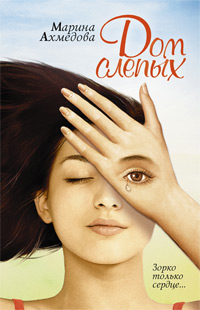
а разве полная пустота не дар?
И героиню Джойса зовут, разумеется, не Нора. Даже неудобно говорить об этом в присутствии культурных людей. Тем более, полагаю, что автор ориентировалась не на "Улисс", а на каких-нибудь третьих-пятых эпигонов. Монологи Молли сейчас в любом женском романе.
А что касается травмы, то автор очень точно оговаривается/проговаривается."После первой фиксации травмы". Видимо, речь идет о фиксации в слове, в тексте.
Но более специальное употребление предполагает "фиксацию на травме/травмирующем событии".
Вот это более точный вариант описания нынешней ситуации.
Точно также, как страна фиксирована на травме Второй мировой войны, и, соответственно, проявляет все признаки "военного невроза", она фиксировалась на чеченской войне (или двух войнах). И, судя по всему, надолго.
Подтверждений тому - сколь угодно.
И, разумеется, тескст М. Ахмедовой никоим образом не позволяет от этой фиксации избавиться.