Лучший жребий для человека – вовсе не родиться на свет: это произносится с античности. Но ни у кого в русской поэзии эта мысль не была развита с такой ясностью и трагичностью, как у Цветкова
Имена:
Алексей Цветков
© Евгений Тонконогий

Новая книга
Алексея Цветкова – продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать
отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
О главных темах цветковской поэзии много раз писали (в частности,
Лиля Панн,
Дмитрий Бак,
Евгения Вежлян): при внешней герметичности текстов Цветкова их основные проблематика и пафос явны и узнаваемы. В новой книге Цветков, как и прежде, говорит о смерти, о Боге, о прошлом, но каждое новое стихотворение добавляет что-то существенное и непустое к продуманному и проговоренному ранее как самим Цветковым, так и его предшественниками.
То, что лучший жребий для человека – вовсе не родиться на свет, произносится с античности, но, кажется, ни у кого в русской поэзии эта мысль не была развита с такой ясностью и трагичностью, как у Цветкова в стихотворении «Скажи еще», где недаром рефреном звучит сочетание «разрывалось сердце». В этом же тексте обнажен основной парадокс этой поэзии: сама ситуация. Как возможен разговор с нерожденным, с тем, кого нет? Возможен в пространстве стихотворения, – а нерожденный в этом пространстве все-таки обретает бытие, чтобы задать свои вопросы и пройти от изначального знания о звездах к знанию о том, чего он лишен.
Еще парадоксальнее образ другого Несуществующего в этой книге. На первый взгляд ни один современный поэт, кроме Алексея Цветкова, не формулирует атеистическую программу с такой четкостью и последовательностью:
я и сам если надо
сочленяю фонемы без вящего смысла и лада
небывалого бога взашей заклинаньем гоня
чтоб отлип к ебеням от меня
«Черемыш»
«Новый» Цветков возник, как не вполне верно считается, после катастрофы в Беслане. Катастрофа на Гаити также вызывает к жизни текст: «опять не в духе // в живые лица // вонзает когти / неукротимый / директор мира / верховный хрен сам / слезая утром / спеша к престолу / с небесной койки / и трупный запах / ему приятен / над порт-о-пренсом» («Пепел Гаити»). Стихотворение заканчивается так: «пора припомнить / когда на карте / горит гаити / кто автор смерти / и нашей мнимой / над ней победы». Если абстрагироваться от травматической реакции, которая часто бывает именно такой (возмущение Богом – как он это допустил?), то видно, что в этом тексте у Цветкова возникает тот самый парадокс, который точечно обозначен уже в стихотворении «Черемыш». «Верховный хрен», «небывалый бог» – но если небывалый, чего ж его гнать? Если Бога нет, зачем припоминать, «кто автор смерти и нашей мнимой над ней победы»? Или имеются в виду те, кто придумал Бога? Что грубо отталкивается – всемогущее и злонамеренное существо или его раздражающий образ, персонаж, выкованный религиями и культурой (этот образ в поэзии Цветкова намеренно снижен, и нынешняя книга не исключение; библейские образы, сюжеты, фразеология становятся объектами пересмешничества)? Может быть, обстоятельства, благодаря которым мы так устроены, что не только умираем, но и осознаем смерть? Может быть, Бог у Цветкова – условная фигура для адресации протеста?
Читать текст полностью
Важнейшие темы книги – Творец и смерть – неоднократно пересекаются. Стихотворение Aus der Tiefe (то есть De profundis – псалом 129: «Из глубины взываю к Тебе, Господи»; немецкое название намекает на кантату Баха) начинается так: «ужас очнуться в утлой коробочке пеплом / сердце где кровоточило вдогонку ноет / вместо того чтобы добрый навстречу в белом / кто-нибудь даже ладно пусть не гуманоид / после паралича вечным пером в пенале / тлеющим фитилем утонуть в черном воске / тщетно старались зачем тогда распинали / зря изводили гвозди зря тратили доски». Отчаяние, маскируемое цинизмом, доходит до высшей точки в строках, описывающих «план действий»: «вернуть завету гаранта / сойтись толпой и завопить распни распни мол / снова чтобы алгоритм сработал обратно / в пользу старого ада где напомнят черти / мертвым что тайна любви глубже тайны смерти». Возвращение «завету гаранта» – уже вовсе не почтительнейшее возвращение билета в рай. Что это – переосмысление бунта, где бессмысленная и кровожадная толпа оказывается сознательной манифестацией, где вычленяется только мотив отказа от навязанной иллюзии? Но и «старый ад», по Цветкову, иллюзорен и, конечно, не может быть чем-то лучше; лучше не может быть вообще ничего:
очень мудро что мы умираем
наповал как любое бревно
а у жизни за порванным краем
неподвижное время одно
разве лучше чтоб нас наказали
за отсутствие в сердце стыда
и набитыми пеплом глазами
наказание видеть всегда
«Стансы»
Такая мудрость, конечно, плохое утешение, но не в утешении дело. Цветков – поэт, которому надо «мысль разрешить», и само катастрофическое положение о существовании смерти – повод для говорения. «Когда б вы знали из какого / предсмертия растут слова», – пишет Цветков, и эти строки, полемизирующие с одной из многих заполированных формул русской поэзии, кажутся чуть ли не самыми значительными в книге. В этом предсмертии, по крайней мере в его описании, возможна и важна не только мучительность: обостряются и другие чувства, в том числе ощущение связи с другими существами. Это происходит в одном из лучших стихотворений сборника – «Муха». Связь с другим в свой и (или) его критический момент осмысляется постфактум, и само это событие – экзистенция, переворачивающая опыт. Здесь не так важно, моментально событие («Замыкание») или продлено во времени («Юта»): оно обеспечивает взаимообратную связь, где прошлое замыкается с настоящим, а живое с мертвым. Самое эмоционально светлое стихотворение книги также затрагивает вопросы божественности и смерти, но в притчевом ключе предлагает мысль о том, что таких категорий, как святость, достойно только гипотетическое ненасилие; но здесь тоже игра с условностями, например с человеческим представлением о невинности животных:
если божья коровка в дороге не тронет ни тли
стиснет зубы и не прикоснется к любимому блюду
у нее загорается свет трансцендентный внутри
и она превращается в будду
если вдруг стрекоза на росу перейдет и овес
расцелует цветок перевяжет кузнечику рану
семеричную правду откроет собранию ос
стрекоза обретает нирвану
Третью доминанту книги составляют тексты, где так или иначе присутствуют воспоминания о советском прошлом – а они есть во всех его последних книгах. В короткой рецензии на «Сказку на ночь» Кирилл Корчагин говорит об усилении «мемуарного» компонента и добавляет, что это «иногда заставляет вспомнить Цветкова времен «Эдема». «Эдем», главная книга Цветкова «первого периода», не раз вспоминается и при чтении «Детектора смысла». Здесь вновь возникают призраки давно потерянных людей – например, одноклассников. Стихотворение «Вконтакте», не самое удачное в книге (кстати, мне неизвестны по-настоящему удачные стихотворения о социальных сетях – возможно, еще не найден нужный язык?), становится в ряд с текстами «Город, город» и «голодный глоток нембутала…» из «Эдема», по-новому осмысляя реакцию на воспоминание: там, где раньше было «чур меня», теперь появляется краткосрочное любопытство. Освоение современной техникой функций памяти – мотив, который есть и в The Loop Theorem, и в стихотворении «связь восстановлена сверху внахлест провода». Хочется – пафоса не избежать – добавить вот что: Цветков показывает, что в эпоху социальных сетей, Google Maps и туристических цифровых фотоаппаратов, конвейером отщелкивающих красоты, память поэта остается памятью поэта. И она является областью постоянных упражнений, о чем говорится в текстах «Мнемоническое» и «Метод исключения»; упражнения могут выполняться чуть ли не на автомате: «можно быстрым наброском / рассказать обнажая прием / о себе и сопровском / как мы в питер катались вдвоем». Впрочем, автоматизма тут нет, есть осознанная рефлексия: «всюду литература / мир велик да держава одна / эта родина дура / за кого нас держала она». Представление о Родине в стихах Цветкова лишено сентиментальных черт; стихотворение, в котором можно разглядеть что-то похожее на ностальгическое воспоминание, открывается обыгрыванием хрестоматийной цитаты: «там винный магазин там вечный дух / свободный русский рубль взыскует двух».
Ироническая аллюзия на советскую культуру может появиться там, где ее не ждешь: в том же стихотворении «Черемыш» возникает ряд созвучий: «человечина член чевенгур чебурашка челеста» – и здесь вспоминается перечисление энциклопедических статей в мультфильме как раз о Чебурашке: «Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары». Более очевидна отсылка в стихотворении «Весть», где некие «мы», узнав из телебашни, что человек свободен, отправляются «туда где он живет / в краю умеренных широт / сказать ему об этом»: в памяти всплывают сразу несколько стихотворений, где пионерские делегации приходят к людям. «Анна-Ванна, наш отряд / Хочет видеть поросят» (Квитко в переводе Михалкова); «И вот к герою мы идем / Взглянуть, какой он есть» (Барто) и тому подобное. Пародийности стихотворению Цветкова добавляет не только то, что свободный человек спускает на посетителей псов, но и то, что сами «мы» представляются: «мол делегаты от ребят / кому по ящику твердят / что человек свободен». То есть не люди, а разве что зомби.
Вместе с тем к трем обозначенным доминантам поэзия Цветкова, конечно, несводима – и не только тематически. Книга как сумма размышлений – это очень важно, но есть еще что-то: удивительный, действенный язык, способный по-разному осуществляться. Ироническое рассказывание; изображение логико-математического рассуждения; перечисление деталей прошлого с перетекающими друг в друга обобщениями и дополнениями, приближениями и отдалениями:
жара на пасеке и пруд
в пруду кувшинки
кругом пунктир кротовых груд
и жаб ужимки
взмывает певчая пчела
в зенит ретива
от сотен тысяч пчел черна
вся перспектива
отхлынут крыльями вертя
отливом в улей
я там с отцом гостил дитя
теперь он умер
трава в овалах жабьих ртов
вся жизнь и сложность
фортификация кротов
ужей возможност
«Жара»
Мне кажется важным сказать о двуязычных текстах в книге. Их два: The Loop Theorem и Katyń, где с русским языком совмещены соответственно английский и польский. Кроме того, есть много англоязычных вкраплений в стихотворении «Ошейник».
The Loop Theorem – цикл, озаглавленный по названию одной из топологических теорем; слово loop также говорит о закольцованности, что наглядно проявлено в построении цикла (английские части чередуются с русскими, а финальный фрагмент соединяет английские и русские строки): Цветков будто возвращает циклу круговое значение. Именно о разграничении значений, смыслов и ощущений идет речь в начале The Loop Theorem; в тексте появляются поезд и автобус, мотив полета на самолете здесь сквозной – все это позволяет утверждать, что «сюжетом» цикла являются перемещения туда и обратно; перелеты из языка в язык – это, возможно, и перелеты из Америки в Россию.
Katyń – реакция на крушение польского самолета под Смоленском; русско-польские нарратив и частично обсценный диалог двух призраков, ожидающих прилета траурной делегации, нагнетают в стихотворении атмосферу страха; катастрофа кажется непреложной:
вот снижаются моторы подобны грому
первый призрак тычет пальцем в небо второму
говорит dobrze że nas nawiedzają wiosną
ptaki nam śpiewają przebiśniegi nam rosną
tylko nikt z nich odtąd już nigdy nie odleci
będą mieszkać z nami więc to są nasze dzieci
(«хорошо что к нам приходит весна / птицы нам поют подснежники нам растут / только никто из них отсюда уже никогда не улетит / будут жить с нами значит это наши дети»). Стихотворение написано силлабическим тринадцатисложником с женскими окончаниями, который был распространен в польской поэзии Нового времени и оттуда пришел в Россию. Таким образом, двуязычный синтез дополнен и на формальном уровне – и у этого, конечно, есть символическое значение.
Двуязычные стихи Цветкова не рассчитаны на перевод, они так написались и не могут быть представлены по-иному. Это по-своему повышает статус стихотворения, которое таким образом перестает быть явлением одного языка и перемещается на межъязыковой уровень, но это повышает и требования к читателям; сразу, хоть и нечетко, очерчивает их круг и, особенно в случае с «Катынью», адресует текст определенной аудитории.
Заглавие «Детектор смысла» перекликается и с любимой Цветковым физико-технической терминологией, и с терминологией юридическо-криминологической («детектор смысла» – «детектор лжи», ср.: «презумпция смысла» – «презумпция невиновности»). Вместе с тем было бы неправильно трактовать это заглавие как намек на то, что книга является «смыслоуловителем» или же в том смысле, что тексты, включенные в нее, проходят проверку на детекторе. Вынесенное на обложку выражение – о том, что в сознании автора все время происходит поиск идей, которые кристаллизуются в текстах и добавляют слои к осмыслению ultimate questions. Здесь есть несколько проходных стихотворений, без которых, мне кажется, можно было бы обойтись: «Экспромт прерванный от испуга», «сроду не бывал я в улан-баторе…», {-tsr-}«Ночные нивхи», слишком многословная «Птица», отталкивающаяся еще от одного классического и даже набившего оскомину текста – «В ожидании варваров» Кавафиса. Но, с другой стороны, в книгах Цветкова последних лет соблюдается правило полноты, включения практически всего написанного за истекший период. Это говорит, кажется, не столько о высокой оценке автором собственных произведений, сколько о необходимости продемонстрировать безостановочный ход индивидуальной и принципиальной работы с травмирующими онтологическими проблемами, которые предъявлены поэту – и нам.
Алексей Цветков. Детектор смысла. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2010


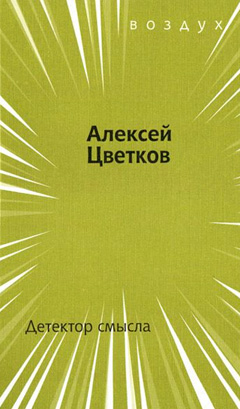
но цветков - поэт интересный
а рецензия строго наоборот (при всём уважении к рецензентам и их труду )