Смешно через сто лет после Хлебникова и через семьдесят три года после «Стихов о неизвестном солдате» объяснять особенности стиля Быкова, Рыжего etc. их «консерватизмом», и смешно так же объяснять пристрастия их читателей.
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ комментирует дискуссии о картографировании современной русской поэзии и утверждает невозможность единой картины новейшей литературной истории
1Все литературные дискуссии последнего времени (а оно на дискуссии богато) начинаются почти одинаково. Маленькая заметка в иноязычной газете переводится на русский язык и провоцирует долгие, иногда многомесячные споры.
Читать!
Роль спускового крючка сыграла, несомненно, более развернутая статья сверстника Афанасьевой — Евгения Никитина, названная довольно претенциозно «Минимальная картина современной поэзии». Если Афанасьева рассматривала поэтическую жизнь 1960—1980-х годов исключительно с точки зрения ее влияния на нынешних молодых авторов, то Никитин претендовал на объективную позицию, на деле ее, разумеется, не предъявив, более того, продемонстрировав весьма ограниченную осведомленность в предмете. И все же ярость иных старших авторов, обрушившихся на Афанасьеву и Никитина в интернет-блогах, кажется неуместной. Если мы вспомним о довольно многочисленных молодых авторах, которых научили выдавать свою техническую беспомощность и невежество за «инновационность»; или о тех, кто предпочитает не поминать своих предшественников, притом откровенно им подражая; или о тех, для кого в современной словесности все превосходящее по сложности нравоучительный роман или крокодильский фельетон, обозначается словом «верлибры»… На этом фоне поэты, искренне пытающиеся обрести ориентиры в большом пространстве русской поэтической культуры последних десятилетий, как-то структурировать для себя это пространство, выглядят привлекательно.
Конечно, объединять Кушнера и Кублановского с «ахматовскими сиротами» (и друг с другом) не совсем грамотно, но неточность картины связана с выбором точки обзора. Точку эту молодой автор заимствовал у своих учителей; сами эти учителя (Марк Шатуновский, Евгений Бунимович), естественно, тоже оказываются в центре картины, вместе с клубом «Поэзия», с метареалистами, с Ниной Искренко… А где-то на периферии — Елена Шварц.
Излишне говорить о том, что автору, скажем, этих заметок эта картина кажется очень далекой от истины. Но возможна ли вообще чья-нибудь чужая (исключая ближайших литературных союзников, числом два-три человека) картина новейшей литературы, которая не казалась бы мне далекой от истины? Ну вот, скажем, Дмитрий Кузьмин — знает ли кто-нибудь русскую поэзию последних десятилетий лучше его? И однако же, при чтении его давней статьи «Русская поэзия в начале XXI века», с которой он рекомендовал ознакомиться участникам дискуссии, у меня тоже возникают вопросы. Как можно было, например, упомянуть Мирослава Немирова и притом не назвать Александра Миронова? Впрочем, обозреватель, несомненно, имеет на это свои основания, и — уж конечно — он имеет право строить картину так, а не иначе. При условии, что он не единственный обозреватель. Если на Никитине есть вина, она не в том, что он воспроизвел картину мира старших товарищей, а в том, что не учел ее, мягко говоря, неабсолютности, принял индивидуальную позицию за канон. Ошибка характерная и вряд ли заслуживающая эмоциональной реакции.
Реакцию эту Леонид Костюков объяснил в статье «Нестрашный суд» ложным, на его взгляд, представлением о том, что «литератор неукоснительно подлежит суду» следующего за ним поколения, причем винит в распространении такого взгляда того же Кузьмина. Однако при всем влиянии последнего едва ли ему под силу было бы в одиночку внушить эту точку зрения литературному сообществу. И если десять — двадцать — тридцать лет назад суд молодых, квалифицированный или не особенно, не пугал и не раздражал старших (судят себе и судят), а нынче стал раздражать и пугать — значит, что-то изменилось в отношениях поколений. Что же?
2
Существуют (или существовали) непрерывные поэтические культуры, в которых ничего не исчезает навсегда, в которых все былые традиции живы (даже если на века «заморожены» и выпали из поля зрения). Такова (или такой была) традиция англоязычной (особенно британской) поэзии. В такой культуре всегда возможны тотальные пересмотры прошлого: самый яркий пример — Донн и поэты-метафизики, которые благодаря Элиоту из бокового, второстепенного течения, известного лишь специалистам (статус, в котором они пребывали двести лет), превратились в главную линию английской поэзии.
Русская поэзия не такова — и такой никогда не была. Ее история — это история циклов (известных нам как Золотой, Серебряный и, условно говоря, Бронзовый века) с более или менее фиксированным началом (1812, 1894, 1953), растянутой да десятилетие-другое кульминацией (1820—1830-е, 1910—1920-е, 1970—1980-е) и довольно трудно локализуемым во времени завершением, естественным или насильственным. Отчасти это связано с основным трендом русской истории: эмансипировалась не личность (как в Европе), а социальные слои; новый, пришедший к культуре (и/или власти) слой мог изучить (при желании) язык прежних хозяев, но не мог органически воспринять их систему десятых и двадцать десятых смыслов, тайных отсылок и умолчаний. Все это формировалось заново. Но и сама культура, кажется, на генетическом уровне приспособилась к подобным культурным революциям — это, впрочем, только гипотеза. Самое великое, что было создано на закате Серебряного века (поздний Мандельштам, обэриуты), родилось в результате конфликтного взаимодействия с новой, чужой языковой реальностью. Не это ли взаимодействие имел в виду и Ходасевич в своей знаменитой формуле о «розе» и «дичке»? Речь идет именно о конфликтном смысловом диалоге — не о компромиссе, который как раз оказывался совершенно бесплодным. Но и те, кому удавалось избежать соприкосновения с новым варварским миром, оказывались обречены на респектабельное увядание (лучший пример — младшее поколение поэтов «Парижской ноты»).
Напрямую унаследовать одну из линий предыдущего эона невозможно. Прежде всего, необходимо воспринять его наследие как целостность и установить с этой целостностью личный контакт, а уж потом искать в ней важные для себя традиции, заслуживающие продолжения, возрождения, спора, переосмысления. Очень хорошо виден этот процесс на примере творческой эволюции Бродского в 1960—1965 годах.
Ну а теперь посмотрим, что происходит сейчас.
Читать!
{-page-}
Но поэзия не шахматы: общее знание, дыхание, умение, копившиеся сорок лет, стали стремительно уходить у молодых поэтов в начале нулевых, при том что поколение, дебютировавшее в последнее десятилетие, — изобильное числом и в целом одаренное.
Читать!
Но если так, то перед нами нечто большее, чем просто суд молодого поколения. Следующий цикл (не поколение!) действительно обладает правом выносить окончательные (или почти окончательные) приговоры. В той картине поэзии Золотого века, которую составили символисты, акмеисты и филологи формальной школы, мы уже ничего по-настоящему существенного изменить не можем. Ту картину Серебряного века (и советского «межвековья»), которую начали выстраивать шестидесятники, а заканчиваем мы, очень трудно будет скорректировать.
Именно этого суда старшие, кажется, и испугались. Именно на него молодые и нацелились. Но ни бояться, ни заноситься в мечтаниях не стоит. Если перед нами именно то, что все подразумевают, то пройдут десятилетия, прежде чем приговор окажется осмысленным и близким к окончательному. Ведь новый эон, если он не фантазия, только начинается. В стадиальном отношении нынешняя молодежь соответствует Красовицкому и Роальду Мандельштаму. Вспомним, какие наивности думались в пятидесятые годы о Серебряном веке, каков был набор «главных» имен в сознании тогдашней молодежи — в диапазоне от Гумилева до Маяковского. А если нам скажут, что сейчас у молодых информации о 1970-х годах не в пример больше, чем тогда о 1910-х, то, с одной стороны, да, больше, а с другой — что доступнее: номер «Аполлона» или «Весов» в 1960 году или номер «Обводного канала» в 2010-м? Ответ очевиден: самиздатская периодика времен застоя (без которой многое вообще непонятно) даже для специалистов дефицитна. К тому же и устроена поэтическая жизнь последних десятилетий не в пример сложнее; чтобы ориентироваться в этой сложности, надо либо быть «своим», интуитивно разбираться в процессе, либо досконально со стороны его изучить. Может быть, у сверстников Никитина и Афанасьевой уже нет первого — и еще нет второго.
При этом «Бронзовый век» еще продолжается, что тем более делает подведение итогов преждевременным. Собственно, и Серебряный век продолжался по меньшей мере до 5 марта 1966 года, а отчасти и позже, до кончины Арсения Тарковского и Сергея Петрова, то есть до конца 1980-х. Но там речь шла о живых реликтах. Сейчас — о параллельно существующих «биологических видах». При всей психологической важности 2009—2010 годов, с их обильным мартирологом, и за этим рубежом поэзия нашего эона еще — надеемся — будет полна сил, даже если список поэтов уже не будет пополняться. А будет, увы, убывать.
3
Думаю, не надо объяснять, какую роль в формировании нового канона в 1950—1960-е годы сыграл авторитет нескольких представителей «прежней» культуры, прежде всего Ахматовой и Эренбурга. Тот факт, что Ходасевич не принадлежал к числу друзей Ахматовой и был в откровенно враждебных отношениях с автором «Люди. Годы. Жизнь», привел к тому, что шестидесятниками он был недооценен, даже не замечен. Что и говорить, к примеру, о Георгии Иванове, которого (как и всех молодых друзей Гумилева) Ахматова глубоко и неизменно ненавидела.
Сейчас носителей культуры (или культур — см. ниже) «Бронзового века», пользующихся авторитетом, несравнимо больше, а удельный вес каждого из них несравнимо меньше. Ни у кого нет даже теоретической возможности навязать целому поколению свою картину новейшей литературной истории. Потребность получить такую картину в готовом виде и транслировать дальше, конечно же, есть — и отсюда, например, наивное доверие к «университетским программам», которое демонстрирует Никитин. Но таких программ мы, литераторы, при желании можем составить хоть сотню, на любой вкус, пользуясь полной девственностью в нашем предмете большинства собственно академических людей. И списков «главных» имен мы можем составить множество (несколько вариантов таких списков я привел в свое время в рецензии на книгу В. Кулакова «Постфактум»).
Но все-таки есть что-то, о чем мы (значительная часть из нас) можем договориться, и это «что-то» мы и должны объяснить нынешним молодым. Прежде всего, это структура процесса. Если угодно — классификация поэзии последних десятилетий.
Ниже предлагается один из вариантов такой классификации:
1) (нео)модернизм;
2) то, что с большей или меньшей степенью условности можно назвать постмодернизмом;
3) (пост)советская поэзия;
4) развлекательно-бытовое стихотворчество.
Необходимо осознать, что перед нами — нечто большее, чем просто течения или школы. Разрыв между этими зонами куда глубже, чем между символизмом и акмеизмом и даже чем между акмеизмом и футуризмом.
В особенности это касается взаимоотношений нового модернизма (возродившегося в 1950-е годы) и позднесоветской/постсоветской поэзии «с человеческим лицом». Здесь необходимо сделать (в сотый раз!) необходимые оговорки: слово «советский» не является оценочным и не несет политического содержания — только эстетическое. Причем дело не в темах, не в мотивах, и даже формальная «понятность», однозначность мысли, ясность первого лица (вполне сочетающиеся с использованием того или иного модернистского «приемчика», мыслимого именно как приемчик, как аксессуар) не на первом месте. Гораздо важнее отношения с предполагаемым читателем сам образ этого читателя. Это не «провиденциальный собеседник» (Мандельштам), не «проекция автора в бесконечность» (Набоков), а представитель определенной социокультурной группы, чьим главным качеством является предсказуемость. Автор выступает в качестве оратора, обращающегося не к анонимному одиночке, а к слою, к залу, и он, как оратор и журналист, должен знать свою аудиторию. Такие ныне популярные (и очевидно небесталанные) авторы, как Дмитрий Быков, Борис Рыжий, Вера Павлова — прямые наследники этой линии.
Кстати, недавняя дискуссия между И. Сурат, Н. Ивановой и В. Бабицкой (с участием Д. Кузьмина) о поэзии Быкова очень хорошо демонстрирует, что происходит, если мы игнорируем это различие глобальных эстетических мировоззрений. Не разделяя восторженного отношения пушкиниста Сурат к стихам Быкова, Бабицкая относит его творчество к «мейнстриму», предлагающему читателю привычное и апробированное и противостоящему «актуальной поэзии». Кузьмин же в своем блоге комментирует ситуацию так: «Легко себе вообразить филолога-пушкиниста 1910 года, с восторгом пишущего о стихах Бунина, и филолога-пушкиниста 1930 года, с восторгом пишущего о стихах Адамовича. И не то чтобы стихи Бунина или Адамовича были плохи — напротив. Но если филологический анализ включает в себя и вопрос о месте некоторых текстов в эволюционных процессах национальной литературы, то разговор поневоле пойдет уже другой: не только о том, что стихи Бунина хороши сами по себе и вступают в конструктивный диалог с Пушкиным, но и о том, каково их место на фоне Брюсова, Бальмонта и Блока…». Другими словами, пушкинисту свойственен известный эстетический консерватизм, поскольку он занимается поэзией прошлого.
Но беда в том, что современную поэзию вообще трудно описывать в категориях «архаизма (традиционализма) — новаторства». И потому, что искусство всегда развивается не в одном направлении, и архаическая, в глазах современников, позиция может — в исторической перспективе — содержать зародыш гораздо более радикального новаторства (здесь можно назвать имена разного времени и калибра: от Катенина до Ходасевича). И потому, что подлинный новатор и есть подлинный традиционалист: наследие прошлого (в том числе лежащее под паром, подлежащее оживлению) — достояние его, а не эпигонов (вспомним, какое значение имел термин традиция для того же Элиота, как важны были для Паунда старые китайцы или трубадуры).
А уж в данном случае подобный «линейный» взгляд неверен именно потому, что игнорирует имитационный, инструментальный, если угодно, постмодернистский характер отношений советской поэзии (от позднего Маяковского до Твардовского и Симонова и от Твардовского и Симонова до Быкова и Рыжего) с литературным прошлым. Смешно через сто лет после Хлебникова и через семьдесят три года после «Стихов о неизвестном солдате» объяснять особенности стиля Быкова, Рыжего etc. их «консерватизмом», и смешно также объяснять пристрастия их читателей. Это не стадиальные отличия, это другая культура, которая эстетически беднее, зато гораздо теснее связана с социумом и за счет этого в практическом смысле гораздо успешнее. Быков и Рыжий не эпигоны, просто в той литературной зоне, которой они принадлежат, новаторство понимается иначе. Мастеру, считающемуся крупным, в этой системе координат не нужно создавать собственную поэтику — гораздо важнее предъявить новый опыт, новый тип взаимоотношений автора-оратора с публикой, новый способ его позиционирования. И это предъявляется. Например, Евтушенко и Вознесенский были в своем роде новаторами, ибо стали со слезою в голосе демонстрировать городу и миру свое («лирического героя») несовершенство, греховность, тем самым освящая и право среднего советского человека на несовершенство, несоответствие декларируемым нормам социума. Быков, сформировавшийся в жесткие девяностые годы, когда нравственная рефлексия понималась как проявление слабости, дал нового героя, противоположного склада — бесконечно уверенного в собственной (и своего социального круга) правоте, в собственных достоинствах и талантах. В этом смысле он новатор, каким бы вторичным ни был его художественный язык.
Все это важно в контексте нашего разговора, поскольку сейчас появился целый ряд молодых поэтов, главным образом поэтесс, ориентирующихся именно на эту, постсоветскую линию и получивших успех у «сетевой» аудитории (Вера Полозкова, Аля Кудряшева и пр.). Однако, думается, что генетическая связь между этим типом стихотворчества и советской поэзией, между полупрофессиональными стихотворческими сайтами и эстрадой Политехнического института (как и между «офисным планктоном» и «инженерами») осознается ими, как и их сверстниками, не вполне.
Гораздо сложнее обстоит дело с границей между модерном и постмодерном. Неслучайно многие критики (в том числе такие умные и глубокие, как Владислав Кулаков) не склонны разделять эти явления. И их можно понять: легко представить себе квалифицированного читателя, которому трудно сделать выбор между, скажем, Всеволодом Некрасовым и Леонидом Аронзоном (называю этих двух поэтов, зная о любви к ним Кулакова). Тем более что существует целый ряд промежуточных или не без труда идентифицируемых явлений: так, замечательный лирик-модернист Михаил Айзенберг в своей литературной биографии связан с концептуалистами, с Рубинштейном и Приговым; покойный Алексей Парщиков оказывается «в одной упряжке» и с Иваном Ждановым (модернистом чистейшей воды), и с Аркадием Драгомощенко (бескомпромиссным постмодернистом). О таких широких движениях, как ленинградский андеграунд 1970—1980-х, и говорить нечего: там было всякой твари по паре.
И все же граница есть. И модернисты, и постмодернисты задавались одними и теми же вопросами, которые советским поэтам и в голову не приходили. Но отвечали они на эти вопросы (о природе первого лица в стихах, о возможности высказывания, о множественности смыслов слова и т.д.) разным, иногда противоположным образом. Всеволод Некрасов никогда не стал бы, думаю, писать так, как писал, если бы допускал, что в наши дни можно писать так, как Бродский, как Красовицкий, как Аронзон, и притом достигать первоклассного результата: за его аскезой стояло ощущение закрытости, невозможности иных путей к затекстовой тишине. Пригов и Рубинштейн характеризовали современную «серьезную» лирику как народный промысел, вроде палехских шкатулок (как вежливые люди, они не называли имен, а их коллеги предпочитали не принимать сказанного на свой счет). Несомненно, и между самими модернистами были и сохраняются противоречия:
Читать!
Снять эти противоречия можно, лишь по-другому поставив вопросы (если только они в принципе могут быть поставлены по-другому). Может быть, это и произойдет в будущий век, век неизвестного металла. Но мы-то принадлежим нашему веку, и лучшее, что мы можем передать идущим за нами, — это нерешенные проблемы, неурегулированные конфликты, незаглаженные противоречия. Живой спор, составляющий суть большой эпохи, от понимания которого и зависит восприятие или невосприятие ее наследия.
КомментарииВсего:2
Комментарии
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39050546
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10557218
- 3. Норильск. Май 1307985
- 4. ЖП и крепостное право 1122780
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911204
- 6. Не может прожить без ирисок 863265
- 7. Закоротило 843565
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804241
- 9. Коблы и малолетки 776590
- 10. «Роботы» против Daft Punk 755088
- 11. Затворник. Но пятипалый 530167
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457746

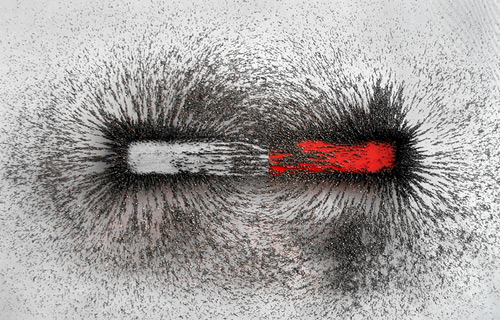
Аля - Кудряшева, а не -ова.