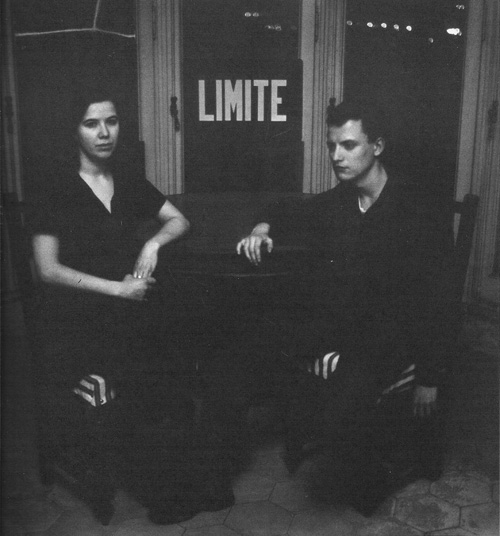Вот что значит влюбиться в философа, который пишет о современном искусстве
Философ, о котором, как нам показалось, пишет Джен Аллен, хорошо известен в Москве, он выступал на симпозиуме во время 2-й Московской биеннале, его печатает ХЖ, и он и правда пишет о сообществе… Его действительно зовут Джорджо, но родом он вовсе не из Греции… Но тс-с, более ни слова
Я начала ждать Джорджо вскоре после того, как познакомилась с ним в Staatsbibliothek, главной национальной библиотеке Германии, неподалеку от Потсдамской площади в Берлине. Это был некий мыслитель из некоего греческого города, который пришел в библиотеку почитать некую книгу. Он был в Берлине всего пару дней, но мы все-таки успели с ним поужинать. И хотя ботинки у него были довольно неудачного желто-коричневого оттенка — у коровы, видимо, было разлитие желчи, — я в него немедленно влюбилась и весь вечер провела в попытках убедить его вернуться в Берлин на подольше.— Я подумаю об этом… — сказал он.
Вот тут-то я и начала ждать. Я не знала, что у ожидания бывает столько настроений, столько темпов. Порой ждать Джорджо было как ждать автобуса в жуткий холод. Такое нетерпение могло сменяться долгим затишьем, когда память о Джорджо смешивалась с еле живым воспоминанием о заказанной пицце, которую так и не привезли, или о любовнике на одну ночь, который так и не перезвонил. А потом я вдруг вспоминала о Джорджо так, как можно вспомнить, что ждешь положенного тебе возврата налогов. В такие моменты я обычно ему звонила и умоляла приехать в Берлин. Два года спустя, когда он сам мне позвонил, я поняла, что новость должна быть хорошая.
— Ну! Ты наконец-то приезжаешь!
— Возможно… но пока, этим летом, точно приезжает один мой друг.
— А что за друг?
— Эмануэле. Он очень молодой, лет 28—29… но очень хороший.
Я поняла суть сделки: займись моим приятелем, или я в Берлин больше не приеду. Так я начала ждать Эмануэле — замену Джорджо. А что мне оставалось делать? Когда Эмануэле позвонил сказать, что приезжает, он говорил по-немецки с японским акцентом. Но оказался он итальянцем — маленьким, худеньким, плохо одетым, с сомнительными представлениями о гигиене и еще худшими о готовке. И куда моложе, чем 28—29, — ему было 20! Предстояла морока. Но он в самом деле был «очень хороший», в том смысле, что он был начитанный полиглот, который всю жизнь провел в библиотеке. Он никогда не слыхал о Prada, Sony, Зидане, Джеймсе Бонде, Мадонне (певице), сальсе (как танце, так и соусе), но сыпал точными цитатами за все двадцать пять веков развития философии.
Излюбленным предметом цитирования был для него Джорджо. Каждую вторую фразу Эмануэле начинал с одной и той же формулы: «Джорджо говорит...». A Джорджо говорил много чего про самые разные вещи, и Эмануэле повторял все это как аксиому по любому случаю. Как если бы слова Джорджо обладали финальностью истины в последней инстанции. Там были довольно загадочные рекомендации объектов для чтения, например Ich möchte bellen («Я хотел бы лаять») странного автора по имени Mynona. Там были замечания о любви (это высшая философия). Там были описания носовых платков Хайдеггера (белые с синей каймой, из чистого хлопка). Какую обувь носить на пляже (кожаные сандалии без носков). Советы из области моды (никогда не носить черное с коричневым). Кулинарные максимы (остатки еды надо приберегать на вторник). Рекомендации на предмет свиданий (женщин в колготках следует обходить стороной). Основной принцип питья кофе (насыпать немного сахара, но не размешивать, кофе выпить, а потом доесть сладкие остатки ложкой). И даже о погоде (сухая жара лучше, чем сухой холод, но хуже, чем влажное тепло и ветреный весенний день).
Согласно Эмануэле, Джорджо также мог многое сказать о Канте, о его сложной философии и многочисленных комментаторах — порой исключительных, подобно самому Джорджо и еще одному, который давно умер, а в большинстве случаев посредственных. За литром довольно скверного красного вина Эмануэле объяснил, что у Джорджо была тайная внутренняя связь — пакт — с великим немецким философом, который возвестил приход Просвещения. Эмануэле вдруг начал громко шептать на своем немецком с японским акцентом, что заставило всех в ресторане оторваться от пива и посмотреть в нашу сторону с сочувствующе-ласковым выражением лица, как будто мы были странной парочкой, которая для романтических каникул выбрала неподходящий город, если не неподходящего партнера. Истина была том, что Джорджо родился в один день с Кантом. A Эмануэле был тезкой Канта.
— Но ведь Эмануэле и Иммануил пишутся несколько по-разному.
— Kанта крестили как Эмануэля.
— Но ты-то ведь Эмануэле, с лишним Е на конце.
— Ну, это достаточно близко.
— Ну а вот это тебе не близко? Моя мама родилась в Кенигсберге.
Начитанному полиглоту не надо было объяснять, что Кант родился и умер в Кенигсберге, что он никуда оттуда не выезжал, только один раз на пару часов съездил в деревню, о чем жалел до конца своих дней. Услышав этот кусочек моей семейной истории, Эмануэле кашлянул, как будто вино попало ему не в то горло. Но я не могла и предположить, что он изречет потом:
— Джорджо говорит, что вокруг Канта всего всегда по три. Ну вот как три его критики: первая — «Критика чистого разума», вторая — «Критика…
— …практического разума», а потом «Критика способности суждения». Я знаю все три, Эмануэле.
— Ну хорошо, а силу их ты знаешь? Силу кантовской триады? Все вокруг Канта находится в троичной конфигурации: трио, триптихи, триады, тройки, трехколесное... А в исключительных обстоятельствах тройная конфигурация несет в себе новую философию.
— Что?
— Поскольку Джорджо родился с Кантом в один день, он философ истории. Я его тезка, поэтому я философ языка. А ты с твоей мамой из Кенигсберга… наверно…
— Ну?
— …наверно, философ географии.
— А не думаешь, что я тоже имею отношение к философии истории?
— Нет, это Джорджо.
— Но ведь философии географии не существует.
— Ну вот и напишешь ее. В этом твоя задача. Вместе напишем!
Свое будущее с Джорджо я не представляла себе таким: в вихре кантианской тройки с Эмануэле, мчась без руля и ветрил к философии географии. Но это было в своем роде лучше, чем просто ждать Джорджо. Впервые за многие годы я подумала, что у меня может появиться шанс провести с ним какое-то время. A Эмануэле можно было, в конце концов, отправить в библиотеку за книгами. Сколько времени может занять написание философии географии? Месяц? Два года? Или целую жизнь? Два дня спустя, когда Эмануэле сказал, что у него «очень хорошие новости», я была уверена: Джорджо наконец-то едет, чтобы финализировать наш кантианский пакт.
Но оказалось, что едет еще один друг Джорджо, Матео. Он тоже был итальянец и тоже двадцатилетний, но выше, толще, лучше одет, лучше вымыт и готовил неплохо. Матео не был «очень хорошим», по крайней мере, не такой хороший, как Эмануэле, с его философскими ссылками, но он знал несколько действительно неплохих стихов и упражнения для спины. Было ясно, что Матео точно так же влюблен в Джорджо, как Эмануэле и я. Я ждала, Эмануэле повторял: «Как говорит Джорджо…», а у Матео был его собственный ритуал: «Джорджо может...». Как Эмануэле, Матео провел с Джорджо много времени, но вместо того чтобы слушать, он смотрел, сколько разных дел Джорджо может с легкостью исполнить. Список был бесконечен: Джорджо может ощипать курицу, Джорджо может приготовить ужин на двадцать человек, Джорджо может поднять все книги Хайдеггера разом, Джорджо может починить духовку и пылесос, причем и то и другое в один и тот же день! Джорджо умеет плавать брассом в океане, убивать комаров в темноте и крутить задом на танцполе…
Должна признать, что тем берлинским летом, что мы ждали Джорджо, скучать мне не пришлось ни минуты. Если мы не говорили о Джорджо, то делали упражнения для спины, которым нас научил Матео, или открывали перед Эмануэле жизнь за пределами библиотечного раздела философской литературы (мы ему сказали, что приобщаем его к «постхайдеггеровскому мировоззрению», но вообще-то речь шла о знакомстве со всем тем, что случилось в поп-культуре после 1976 года). Если перед нами вставала дилемма — пойти купаться или гулять? — то мы спрашивали Матео, что лучше делает Джорджо, и следовали его примеру (в этом случае — шли купаться). А если между нами возникали разногласия, скажем, относительно лучшей книги Делеза, мы апеллировали к экспертному мнению Эмануэле. «Что бы сказал Джорджо (о «Тождестве и различии»)?» Некоторые тождества действительно наблюдались. Когда Матео начал рассказывать мне, что Джорджо способен сделать со своим кофе, я уже знала: «Да-да, он может съесть весь сахар со дна чашки… Весь, до последней крупинки».
Пока мы трое молча доедали сахар со дна своих чашек, мне пришло в голову, что я сижу прямо в середине одного из кантовских троичных полей, обрамленная «Джорджо говорит» и «Джорджо может». Первая критика — чистого разума — была про знание a priori. А разве Эмануэле не знал всегда, что скажет Джорджо, еще до того, как тот сам произнесет эту бесспорную истину? Вторая критика — практического разума — была про этику. А разве Матео не знал принципов Джорджо в любой ситуации, от кухни до танцплощадки? Это оставляло на мою долю критику способности суждения, в которой сообщество людей создается при помощи суждения о красоте. Красота — это была, безусловно, я, но я-то ждала Джорджо, а не все сообщество…
— Ой, забыли тебе сказать. Джорджо вчера звонил!
— Так он все-таки приедет!
— Он думает приехать… а пока приезжают его друзья, Паоло и Кристина.
— А что же будет с силой кантовской триады?
Матео как-то смешался. А Эмануэле смутился.
Оказалось, что я была и права, и не права. Паоло и Кристина превратили нас в сообщество, но при этом принесли новости о сообществе иного рода. «Подруга Джорджо...» — начал Паоло. «Красавица!» — заталдычила Кристина. «Она такая красивая... bella!», «Она и Джорджо так красиво смотрятся вместе». Эмануэле и Матео были, похоже, согласны, хотя ни один из них прежде не упоминал подругу в контексте многочисленных слов и бесконечных деяний Джорджо. «Мы так дружим», «Все дело в ее красоте», «Да, именно ее красота и держит нас вместе», «Когда мы спорим или в разговоре возникает неудобная пауза, silenzio, мы смотрим на нее, она улыбается в ответ, и все начинают смеяться», «Вместе!», «Красота!».
Я впала в депрессию. У меня с Джорджо не было ни малейшего шанса, даже в области философии географии. Я должна была там сидеть и терпеть это все. Паоло и Кристина любили ходить по музеям — куда же еще? — проверять, достаточно ли прекрасны старые мастера в Берлине, но современное искусство их не интересовало. К несчастью для меня, поскольку Кант не написал четвертую критику, критику политики, правила поведения в нашем маленьком сообществе изменить было невозможно. Никаких голосований не допускалось.
Поскольку август подходил к концу, стало ясно, что Джорджо не приедет. И у меня родился план завершить лето вполне себе миметическим художественным приемом.
Когда я сказала Эмануэле, Матео, Паоло и Кристине, что видела человека, похожего на Джорджо, они не поверили своим ушам. «Ma no! Это невозможно, Джорджо один в своем роде!» — «Ma si! Как две капли воды, говорю вам». — «Ты уверена?» — «Да, он очень красивый!»
Они страшно возбудились. Мы назначили встречу на следующий день в кафе. Ну и он, конечно, там был, грациозно сновал между столиков.
Когда я на него указала, все были шокированы.
— Джорджо... — Эмануэле опять так же кашлянул. — Джорджо... гораздо красивее!
— И волос у него больше! — сказала Кристина.
— Больше волос или меньше — этот тип просто не похож на Джорджо! — сказал Матео.
— Ничуть! — сказал Паоло.
— А ты вообще-то встречалась с Джорджо? — спросил Эмануэле.
— Ну… всего один раз.
Все они посмотрели на меня с отвращением. С тем же успехом я могла повести их в Евродиснейленд посмотреть на Дональда Дака или в Музей мадам Тюссо — на Гитлера. Когда официант пришел принять заказ, никто на него не взглянул. Когда он принес нам кофе, они все закрыли глаза рукой, как будто его лицо было неприятным источником яркого света, как на допросе. Кофе они выпили молча, переглянулись и встали.
— А как же доесть сахар?
— Кофе плохой, — сказал Паоло, кладя банкноту на счет.
Они ушли вместе. Наше мини-сообщество стало их мини-сообществом, за вычетом меня. Oднажды вечером я напомнила Эмануэле, что Кант не требовал, чтобы все были согласны относительно суждения о красоте. Но я нарушила табу, не только сравнив Джорджо с лысеющим официантом, но и тем, что призналась, что не так-то много времени провела с Джорджо. Он был просто знакомый, не друг. А потом один за другим друзья Джорджо покинули Берлин. Ровно в том порядке, в каком приехали: Эмануэле, Матео, а потом Паоло и Кристина.
Через год я позвонила Эмануэле спросить о его философии языка, о том, как продвигается философия истории у Джорджо, и о том, хочет ли он все еще писать философию географии. Но Эмануэле про все забыл: про силу кантовской триады, про упражнения для спины, про то, что Джорджо говорил про остатки еды, про сандалии и про сухую жару — про все, кроме этого официанта. «Ты уверена, что эта теория триады не то же самое, что твой двойник Джорджо?»
*
Пять, а может, и семь лет спустя Джорджо появился в Берлине. Он позвонил мне с бухты-барахты и попросил встретиться с ним через час в Staatsbibliothek. Выслать вперед парочку друзей он забыл. Я, конечно, сняла колготки и помчалась. К счастью, на нем все еще были эти несчастные желчные ботинки, иначе я могла бы его и пропустить.
Я сказала ему, что стала критиком в области современного искусства. Я хотела добавить «пока ждала», но он меня прервал. «Современное искусство нелепо», — сказал он. Он объяснил мне, что с Дюшаном искусство закончилось и что с тех пор ничего хорошего не было, за исключением парочки мелочей Ги Дебора. Он обещал позвонить, и я ждала его еще неделю. С тех пор я уже ничего не жду, кроме как трамвая около дома. И своего смертного дня, разумеется.
Перевод с английского Екатерины Дёготь
Другие материалы раздела:
Вернисажи недели. 26 января — 1 февраля, 26.01.2009
Давид Рифф. С кризисом туфты станет больше, 23.01.2009
Главные художники будущего и Ватикан в Венеции, 23.01.2009
- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля
- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики
- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами
- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея
- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 38470977
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10405017
- 3. Норильск. Май 1307893
- 4. ЖП и крепостное право 1122737
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911153
- 6. Не может прожить без ирисок 862993
- 7. Закоротило 843497
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804128
- 9. Коблы и малолетки 776503
- 10. «Роботы» против Daft Punk 740353
- 11. Затворник. Но пятипалый 529944
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457614