Философ, видеоартисты, директор синематеки, продюсер, бармен и представители других смежных профессий отвечают на главный вопрос раздела «Кино»
Наум КЛЕЙМАН, директор московского Музея кино
Это абсолютно неправильная, искаженная цитата. Ленин сказал совсем иное. Он вообще говорил о просветительстве в неграмотной стране, а понятие «важнейшее искусство» — это абсолютно абсурдная категория, поэтому
Читать!
Александр РОДНЯНСКИЙ, теле- и кинопродюсер
На сегодняшний день кино не является важнейшим из искусств. В условиях полной безграмотности населения — а это уточнение было важным нюансом той самой ленинской формулы — таковым становятся мультимедиа и интернет. Кинематограф сегодня — это не более чем одна из технологических платформ, позволяющих человеку совершать эмоциональные путешествия; на протяжении почти 100 лет он и был этим инструментом и навигатором, побуждавшим людей плакать, смеяться, думать и обсуждать какие-то существенные контексты. Кинематограф просвещал, вдохновлял или, наоборот, разочаровывал, он был явлением не только культурным, но и социальным. Он связывал многомиллионную массу разнородных людей в единую, дышащую одним дыханием аудиторию. Главное преимущество того, что мы с вами называем кино, — это все-таки возможность сострадать, сопереживать и быть частью истории, проживать ее вместе с героями. Это необходимо человеку — психологически, эмоционально, физиологически, в конечном счете. Bот в этом широком смысле кинематограф — не как способ доставки аудиовизуального контента до публики, а как способ создания этого контента — организованной и завершенной истории с героями, с драматической ситуацией, с переживанием, способной захватить и вовлечь зрителя, — безусловно, важнейшее из искусств.
Не случайно некоторые важнейшие жанры, которые составляли более половины кинорепертуара на протяжении десятков лет, — например, драма — просто мигрировали на телевидение. И они будут мигрировать дальше, продолжат свое путешествие на новые технологические платформы. В нынешних обстоятельствах, думаю, тот же Селзник сделал бы «Унесенных ветром» как могучий HBO-шный сериал: большой, событийный. Сейчас в кино доминирует жанр адреналинового аттракциона — именно он и привел молодую аудиторию в кинотеатры. Тут, разумеется, можно бесконечно спорить о том, что пришло раньше — эта аудитория или сам аттракцион. Однако как следствие — все это выжило драму из кинотеатров, и кино вернулось, на мой взгляд, в то состояние, в котором оно начиналось, — в балаганное, базарное представление. Этот аттракцион, конечно, стоит на плечах большого кинематографа и подчас даже выходит за собственные рамки. Но тем не менее его сегодняшнее доминирование в качестве ключевого элемента кинозрелища исключает модель проживания, путешествия людей, объединенных чувством коллективного просмотра.
Боюсь, что кино утратило свой революционный характер. Если говорить о России, то последний всплеск гигантского влияния фильмов на общественные настроения случился в эпоху перестройки, а последней идеологической инъекцией стала картина «Маленькая Вера». И «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, и «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса, безусловно, повлияли на очень важный сегмент советского общества. Но это все же был сегмент. А «Маленькая Вера» стала всенародным явлением, тем удивительным зеркалом, посмотревшись в которое, все узнали себя.
Что взяло на себя сейчас роль пропагандистской машины? Еще лет пять назад я бы с достаточной уверенностью ответил «телевидение» — тогда оно было абсолютным opinion-maker. Вспомним выборы 1996-го, сделанные телевидением, а никаким не кинематографом. Но сейчас я уже не так уверен, хотя, конечно, охват аудитории у ТВ несравнимо больше: у нас успешным считается кинофильм, который посмотрели 4—5 млн зрителей — в стране, где живет 145 млн! Сравните с телевидением, где какой-нибудь канал из трех ведущих собирает аудиторию в 20—30—40 млн.
С другой стороны, за последнее время, после огромного количества манипуляций с инструментарием медиа, у публики вообще исчезло доверие к ним. Именно в этом я как раз и вижу поражение современного российского жанрового кино, а не в том, что оно, скажем, технически плохо сделано или каким-то образом не соответствует своим иностранным конкурентам. Просто оно принципиально манипулятивно по отношению к героям и к ситуации, оно никоим образом не соответствует реальному человеческому опыту, оно нерелевантно ему. Мне нравится вот это высказывание Мамардашвили: когда его спросили, что такое марксизм, он ответил, что это попытка уложить очень большой мир в очень маленькие головы. Вот, собственно говоря, то, чем занимается наш кинематограф, — и то, чего американский кинематограф в своих многочисленных проявлениях, даже очень далеких от искусства, каким-то удивительным образом избегает.
Так что если мы будем говорить о влиянии на еще более широкую аудиторию, то я бы сказал, что спорт — вот способ коммуникации с миллиардами. Игры, которые приковывают к себе внимание миллиардов зрителей, сегодня представляют ровно то, чем на протяжении многих лет был кинематограф. Эти игры и являются главным конкурентом того, что мы называем кино. Это идея не моя, а Юхананова. Он как-то заметил, что знаменитый инцидент с Зиданом и Матерацци посмотрели 2,5 миллиарда человек, в то время как рождественскую проповедь папы римского смотрят в мире, условно говоря, 500 миллионов. Эта история расколола многих болельщиков, заставила их обсуждать: а надо ли было срываться или надо было держать себя в руках? «Сдерживайся!» — так сформулировал суть этого происшествия Юхананов. Мне очень понравилась эта остроумная идея — что это была история про «сдерживайся». В принципе, чем не проповедь?
Советский физик Фейнберг, член-корреспондент АН СССР, написал во времена диспутов физиков с лириками статью, которую я запомнил. Он говорил, что искусство предназначено для утверждения аксиом, вернее, для перевода ситуаций полемичных в аксиоматические. Иными словами, когда я говорю вам: вы знаете, настоящая любовь должна преодолевать любые этнические, расовые, национальные, географические, материальные, сейчас добавим еще и гендерные, границы — вы можете ответить «ну да» или «ну нет». Во всяком случае, мое утверждение будет звучать полемично. А когда вы смотрите или читаете «Ромео и Джульетту», у вас это не вызывает никаких вопросов, вы воспринимаете это as given, as granted, ну то есть как данность. Спорт может дать это в какой-то степени. Но опять-таки он все равно находится в большей степени на территории пусть эмоционального, но аттракциона. Да, он рассказывает истории про мужество, силу, характер, сдержанность, толерантность, но он не рассказывает тысячи других историй, в которых нуждается человек. То, ради чего собирались у первобытного костра люди, на самом деле спорт не реализует. Это ведь не просто истории про то, как они там засадили мамонту в брюхо 15 копий. Это истории про смерть, про болезни, про жизнь, про внутреннюю стойкость — те истории, которые могут укреплять волю к жизни или, напротив, размывать ее, могут заставлять думать. В общем, все то, что вызывает к жизни большую литературу и кино, в частности. И здесь, я убежден, его не заменить.
Так что я думаю, что сейчас это — все, что связано с мультимедиа. Когда я говорю «мультимедиа», я имею в виду процесс ухода власти над контентом из рук тех, кто владеет платформами, то есть различными носителями контента, в руки тех, кто его производит. Если у вас есть послание, идеологический месседж, то дальше вы его начинаете многократно использовать и эксплуатировать на всех доступных вам площадках. Сегодня ведь никто не ограничивает себя просто кинотеатральным прокатом — сегодня все может быть показано и в кино, и по телевидению, вброшено на DVD, VOD и др.
Вот на Украине в силу того, что там нет своей киноиндустрии, к «кинематографистам» относят людей, производящих сериалы. Для них это — кино. Как ни странно, в этом есть какая-то своя сермяжная правда. То есть драматически организованные истории, способные захватить и вовлечь зрителя вне зависимости от того, два часа они идут или 10 часов, — в известном смысле это все, с точки зрения зрителя или политического заказчика, является кинематографом. Вот в этом смысле кино — безусловно, важнейшее из искусств.
Виктор ЗАЦЕПИН, главный редактор издательства «Rosebud»
Ленинская крылатая фраза, переформулированная в ваш вопрос, вышла из его разговора о кино с Луначарским, который состоялся в феврале 1922 года. Чтобы восстановить контекст и смысл сказанного, привожу цитату из мемуаров Луначарского:
«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники и что, по его мнению, время производства таких фильмов, может быть, еще не пришло. “Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то неважно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место”. К этому Владимир Ильич прибавил: “По мере того, как вы встанете на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того — в деревне... Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для
Читать!
По всей видимости, это означает, что кино для Ленина было не важнейшим из искусств по сравнению, например, с керамикой, литературой и балетом, а важнейшим средством распространения коммунистических идей. Курсивом я выделил места, которые показывают, что речь к тому же идет о довольно-таки неопределенном будущем, когда советское кинохозяйство дорастет до машины пропаганды. К счастью, времена меняются, и для односторонней пропаганды каких-либо идей остается все меньше места.
{-page-}
Нина САВЧЕНКОВА, философ, психоаналитик
Эротическое переживание для того, чтобы сбыться, требует абсолютного сосредоточения. Так и кинематограф сегодня требует от зрителя исключительного внимания. Некогда Кристиан Метц сравнивал кино с оперой, называя его «более перцептивным»,
Читать!
Можно было бы назвать это не совпадающее с самим собой чувство мыслью и настаивать на том, что фиксация изображения на пленке с ее последующей проекцией через провалы пространства на двойную поверхность экрана есть решимость схватившего себя присутствия продолжаться в невидимом; не так чтобы трансцендировать в бесконечную даль, ибо невидимое не есть лежащее за горизонтом, скорее, оно есть неочевидное свойство хорошо известных вещей. Поверхность фильма — «чрезвычайно тонкая мембрана момента» — могла бы пониматься и приниматься современным зрителем как глубокая зеркальная гладь, переполненная образами и, если позволите, не-образами, куда сколько ни гляди — себя не увидишь, что, собственно, и позволяет поверить в способность нечеловеческой машины кино, при известной честности ее адептов, учреждать хрупкую власть присутствия. Мне кажется, именно в этом свойстве и кроется власть кино над зрителем, и в этом его, зрителя, онтологическая и этическая надежда, связанная с тем, что он сможет наконец перестать искать повсюду свои отражения, предоставив себя наступающему настоящему. Другими словами, кино уплотнило эротическое переживание до акта веры.
Получается, что причина привилегированности кино в отношении других искусств крайне проста: она в другом понимании эстетического — в буквальной амбиции плоти продлевать себя в вещах невидимых.
Дмитрий ВОЛЧЕК, издатель-киноман
Мою любовь к кинематографу определили три удара. Первый был нанесен в кинотеатре с двусмысленным названием «Уран». Мне было пять лет, и дедушка привел меня в это логово уранистов, пообещав фильм про кота. Но на детском сеансе дьявол, управлявший «Ураном», показал не кота, а инфернальную картину о мучениях героических комсомольцев. Фашисты пытали героев, калечили, одного даже ослепили (кажется, это была драма киностудии имени Довженко). Финальную сцену помню до сих пор, хотя прошло уже 40 лет: слепой комсомолец, размахивая гранатой, бросается под гусеницу танка. Таким было мое первое знакомство с кинематографом, а второе произошло в пансионате старых большевиков, где не вполне законно отдыхала моя бабушка: большевичкой она не была, а в 1919 году даже вступила в партию левых эсеров. Старым большевикам по вечерам показывали заграничные фильмы, и в тот вечер мы с бабушкой пошли на итальянскую драму «Камень во рту». Мафия похитила случайного свидетеля своих злодеяний, неприметного пастушка. В логове бандитов ему сделали инъекцию снотворного. Бабушке стало плохо, и нам пришлось уйти в тот момент, когда одурманенного пастушка везли хоронить заживо на тачке и из-под рогожи торчала его безвольная ладонь.
Третий удар был самым сильным. Мне — одиннадцатилетнему — впервые разрешили пойти в кино одному. На дневном сеансе в кинотеатре «Великан» шла драма Жана-Даниэля Симона с пророческим названием «Где тонко, там и рвется». Рвалось нечто производственное, это была невнятная история о коррупции в строительной компании, но самое интересное произошло в почти пустом зале, где ко мне присоседился огромный мужик, оказавшийся маньяком-педофилом. Ничего фатального он не сделал, просто пытался расстегнуть мне штаны (помню даже эти штаны — серые в мелкую клетку), что-то горячо нашептывал в ухо, а потом прытко сбежал. В фильме «Венди и Люси» есть похожая сцена с насильником, появляющимся из тьмы и невнятно бормочущим мольбы вперемешку с угрозами. Я был так перепуган, что потом несколько лет не мог сидеть в центре зала: когда гас свет, меня охватывала паника, так что я старался выбрать место сбоку, поближе к выходу.
Но это происшествие нисколько не охладило моей страсти к кино. Чаще всего я ходил в кинотеатр Госфильмофонда в ДК Кирова, печальное здание эпохи конструктивизма, словно слепленное из нечистой глины. Собирались там в основном такие же глиняные советские зрители. Но было и несколько пышных персонажей: например, пожилая женщина, которая всегда занимала место в первом ряду и в середине сеанса начинала негромко, но ощутимо сквернословить. Там я впервые увидел настоящего кинокритика. Был 1976 или 1977 год, показывали «Царя Эдипа» Пазолини. Когда Франко Читти взгромоздился на Сильвану Мангано, в зале раздался восторженный возглас: «Ишь как наяривает!» С тех пор я прочитал тысячи статей о кино, много лет выписывал Sight & Sound, затем Film Comment, но ни разу не встречал высказывания точнее и безупречнее.
Сам я сделал в киноведении только одно открытие, зато вполне фундаментальное. Опытным путем я установил, что все фильмы, вышедшие в 1968—1972 годах, хороши, а по большей части великолепны. Это были удивительные четыре года: даже посредственные режиссеры снимали замечательно, словно их наградила чудесным даром добрая фея или сам Люцифер. Причем происходило это повсеместно — от Чехословакии до Японии. Даже в Америке, где кинематографа вообще нет и никогда не было, появлялись вполне сносные вещи (хотя, конечно, лучший американский фильм снял в ту пору приезжий серб Макавеев). Думаю, мне очень повезло, что я впервые увидел кино в 1969 году — тот самый фильм про кота, превратившегося в комсомольца-самоубийцу.
Ольга ДЫХОВИЧНАЯ, сценарист, продюсер, актриса, и Ангелина НИКОНОВА, режиссер; авторы фильма «Портрет в сумерках» (картина замечательна в том числе и новаторской схемой инди-производства: малозатратные съемки цифровой камерой, прокат — на фестивалях, прибыль — за счет многочисленных фестивальных призов)
О.Д.: Я считаю, что оно является не просто важнейшим, а единственным. Это единственный инструмент, который сохраняет культуру. К сожалению. Contemporary art для этого — слишком маленькое гетто. Слишком мало людей понимает тот код, на котором общаются художники.
А.Н.: Я не совсем понимаю этот акцент на важности. Важно для нас как зрителей или важно как для людей, которые делают кино и должны осознавать свою степень ответственности? Почему так важно осознавать, что кино — это искусство? Потому что кино — вещь достаточно агрессивная, в отличие от тех же инсталляций, где зритель активен, где он может выбирать, переходя от экспоната к экспонату. В кино подразумевается, что какое-то количество человек пассивно сидит в темном зале с открытыми глазами, с открытыми ушами. И им неудобно просто встать и выйти и перейти в другой зал, где показывается какой-то другой фильм. Поэтому степень важности и ответственности людей, которые делают кино, — наивысшая по сравнению с другими искусствами.
О.Д.: Люди младше 29 лет не читают, это факт. Они смотрят на этот мир и понимают, что тут не совсем как в «Дяде Степе». У них есть конфликт между тем, что они (или им) прочли в детстве, и тем, с чем они встретились в подростковом
Читать!
{-page-}
Галина МЫЗНИКОВА и Сергей ПРОВОРОВ (группа ПРОВМЫЗА), видеоартисты
Этот существенный вопрос, бесспорно, отсылает к теме ЦЕННОСТИ. Если киноискусство хочет оставаться носителем каких-то ценностей (политических, общественных и т.п. — но прежде всего художественных), ему необходимо
Читать!
Вторая позиция ориентирована на экспозицию кино как «дышащей» формы. Подобное творческое кредо не является доминирующим, но именно оно актуализирует кино как искусство. Для него характерен поиск новых формальных приемов, изобразительных «технологий», способных артикулировать новое восприятие мира. Все это зачастую становится обузой классическому ведению повествования.
Если обратиться к кинотеории Делеза, то кино окажется значимым не само по себе — значение имеют концепты, создающиеся самими кинематографистами. Не случаен, например, стилистически новаторский выплеск 60-х годов (так называемая новая волна), произошедший среди теоретически ориентированной молодежи (критиков, искусствоведов), не имевшей специального кинообразования, но способной сформулировать новый концепт кино. Этот мощный киноконцепт по времени совпал с выстраиванием сильной семиотической теории в культуре философии. Сегодня мы можем говорить о концепте намеренного отказа от интеллектуального кино и прихода к кино «чистого наблюдения», созерцательному кино, появившемуся внутри сверхинтеллектуального сообщества. Но это ситуация европейского кино. Что касается азиатских и латиноамериканских режиссеров, то антиинтеллектуальность здесь — органичная для местного культурного ландшафта форма, и ее аутентичность является неоспоримым алиби подобного режиссерского поведения. (Появляется интересный вопрос: возможно ли выстраивать новые художественные кинотраектории, не опираясь на кинематографическую генеалогию?) Такие режиссеры, отрекаясь от прямых сюжетных линий, выступают одновременно и свидетелями-комментаторами, и художниками-демиургами. Их погружения в построенную ими же кинематографическую действительность как бы замыкают круг между автором и произведением, изящной тайной создают дополнительные, осязаемые, связи между «реальностью» и зрителем. Эта тайна — результат стирания грани между мыслью, переживанием и созерцанием, которое происходит, когда искусство рассматривается как глубинная работа с сознанием. С тем сознанием, которое несет «экологию видения», создаваемую в процессе созерцания, нелогизированного высматривания жизни. Этот способ коммуникации, режим восприятия и воспроизводства времени неминуемо ведет к так называемой новой архаике ментальности, апеллирующей не только к зрению и слуху, но ко всем пяти чувствам. Создается целостная картина мира «зараз», одновременная, подобная синкретическому образному восприятию мира у ребенка, окруженного непостижимым.
В попытку создания особого «интимного пространства» включились и современные художники. На сегодняшний момент прибавление к киноформе актуальных смежных аудиовизуальных практик становится очевидным, отсюда возникает ценность самой подвижной формы кино, так как она актуализирована процессом изменяющегося (художественного) сознания, которое стремится к поиску нового выразительного языка. Понятие «расширенное кино», введенное Джином Янгбладом еще в 1970 году, уже являлось некоторым заявлением о подтекании искусственно созданной герметичной формы кино, размывании его границ смежными искусствами.
Как писал об этом явлении Даниэль Бирнбаум: «В последние годы художественные стратегии апроприации достигли той точки, где напрашивается вопрос, не съедает ли одна форма искусства другую...» К сожалению, этот процесс взаимопоедания, как правило, является результатом неосознанного дискурсивного поведения, а арт-концепт выступает здесь лишь неким усилителем вкуса с «прыгающим» эффектом. К примеру, ни Ширин Нешат, ни Стив Маккуин не сделали своими полнометражными фильмами громкого заявления, они лишь немного осложнили киноформу незначительными перформативными практиками. Подобные точечные выбросы (в одиночку, вдвоем, втроем) творчески ценной энергии не становятся предметом обдуманной художественной практики (назовем ее навигационной), определяющей пути следования кино как искусства. Не покидает ощущение, что мы все время присутствуем на собрании с повесткой дня: «Является ли предъявленная нам форма кино или не является?»
После появления кантовской идеи о мыслящем, но главным образом чувствующем человеке имеет смысл говорить о кино как о некоем «суггестивном теле», притягивающем к себе «опыт-переживание» и балансирующем между сознанием и подсознанием, что предлагает отнюдь не комфортное восприятие, но мучительную работу с психологическим временем. Вероятно, кинематографистам стоит начать переосмысление понятия мимесиса: например, задуматься о воспроизведении не образа объекта, но цепи состояний, воспроизводящих условия восприятия этого образа, — и так далее.
Современному кино имеет смысл обратить внимание на практику художников, ищущих некое внутреннее единство с ранней киномыслью через «сверхсмысловое» высказывание, которое постигается на уровне экзистенциального переживания, интуиции, а не через логический анализ. Такое высказывание выражает нечто вербально неформулируемое, нерешаемое, несоразмерное, несоединимое, невозможное и т.д. Движение фильма от начала к концу не обязательно должно происходить с помощью повествовательной структуры, будет правильнее сказать, что нарратив в этих случаях модифицируется в более экспериментальные формы. К примеру, в фильмах Кена Джейкобса развитие обозначается увеличением частоты мигания. Альберт Серра в качестве субститута нарративности целенаправленно предлагает принцип так называемой бессмысленной ходьбы. Подобные формы репрезентации движущегося образа уже входят в некую «накопительную систему» поисков современного киноязыка, и упорная привычка непременно ассоциировать кино с наррацией, окидывая при этом граничащее с кинематографом пространство недоверчивым взглядом исподлобья, яростное стремление к сохранению «чистоты» киноформы обернутся лишь «пиротехническим» эффектом разрушения канонов, а не осознанной работой.
N, бармен в баре «Мишка», Санкт-Петербург (отказался представиться)
Формулировка, конечно, нафталиновая, сейчас проще, наверное, ответить на вопрос, правда ли религия — опиум для народа. С другой стороны, достаточно в ленинской сентенции заменить «кино» на «балет» или на «макраме», как интуитивно понимаешь — остальные виды искусства и рядом не стоят, а кинематограф, конечно, как и тогда, «впереди на лихом коне». В любом случае ваша постановка вопроса, по-моему, распадается как минимум на пару составляющих. Во-первых, остается ли кино самой влиятельной формой? А во-вторых, действительно ли это вообще искусство?
Я еще застал эпоху видеосалонов и точно могу сказать, что после «Хон Гиль Дона» и «Вампиров из космоса» столь же яркие впечатления были у меня все реже и реже. И хотя мое поколение выросло, окруженное все более доступными видеопотоками, а литература становилась все менее массовой, тем не менее влияние на наши вкусы и взгляды все равно оказал именно печатный текст, а не «Андрей Рублев» или «Пьяный мастер». Дело в том, что кино — это погружение на два часа, маленький трип, сон наяву. Зато язык, с которым ты сталкиваешься в книге, вроде как формирует сознание. И в этом смысле кино литературу, видимо, еще нескоро обойдет.
Что касается внутренних влияний в искусстве, то кинематограф, как гибкая форма, больше, по-моему, впитывает, чем сам отдает. Кино легко впускает в себя ту же литературу или телевизионный репортаж, живопись Возрождения или «новую драму». Та же штука и с людьми: вот Стив Маккуин выскочил из современного искусства, а чтобы наоборот — ну, разве только вот Годар. Очевидно, важнейшим из искусств кино считают также взявшиеся за камеру певица Мадонна, фотограф Корбайн или модельер Том Форд. Не хочется их заподозрить просто в жажде овладеть наиболее массовым средством коммуникации.
О том, является ли кино искусством, могу судить только с позиций разумного обывателя, но, насколько понимаю, ситуация сложилась такая, что слева у нас пиротехника Майкла Бэя, справа — медитации Вирасетакуна, а на линии фронта, скажем, Тарантино. Переведя на более понятный язык: постоянные посетители предпочитают чешский лагер, захожие «пассажиры» — виски «Лафройг» (безо льда, разумеется), но и те и другие в крайнем случае готовы сойтись на «Лонг-Айленде». Только вот готовить его толком уже никто не умеет, так что еще немного — и первые и вторые начнут ходить в разные заведения.
Так вот, именно «пассажиры», то бишь «простые зрители», никогда и не позволят кино превратиться в чистое искусство ради искусства. Это как идеальный бар для друзей: здорово, но ненадолго. При этом кино — это же в самом буквальном смысле «авторский взгляд», потенциально то самое важнейшее из искусств при полном арсенале технических средств. Вот только обеспечивает этими средствами индустрия, которая стремится сохранить баланс в пользу условного «Лонг-Айленда», соблюсти равновесие между «важнейшим» и «искусством». Это из зала contemporary art можно выйти обманутым и недоумевающим, а из мультиплекса — не положено.
Да, и, конечно, еще ваш вопрос про важнейшее из искусств можно понимать исходя из условий, в которых был произнесен заданный афоризм: то есть как утверждение кинематографа самым действенным средством культурной пропаганды. В долгосрочной перспективе сегодня кино, наверно, и может закреплять нужные власти (или ее оппонентам) стереотипы, но на коротких дистанциях оно точно буксует. Те, кто запрещает фильмы вроде «России 88» или «Ходорковского», просто приняли ленинский постулат на веру. Ну вот, обменялись мы с Грузией «Олимпиусом инферно» и «Пятью днями войны» — так это больше похоже на диссы рэперов, чем на всамделишную пропаганду. Зрительные образы изначально менее однозначны и больше склонны к обману, чем слова. Взять, например, «Что делать?»: еще можно понять, как это кто-то напишет, но чтобы снять — едва ли. Да и вообще не могу до конца поверить, что такой результат коллективного труда, как кино, кто-то может называть воплощением творческого замысла. Можно сделать хоть сотню дублей, окончательный результат — все равно лишь упорядоченная случайность.
КомментарииВсего:3
Комментарии
- 29.06Минкульт предложит школам «100 лучших фильмов»
- 29.06Алан Мур впервые пробует себя в кино
- 29.06Томми Ли Джонс сыграет агента ФБР в фильме Люка Бессона
- 29.06В Карловых Варах покажут «Трудно быть богом»
- 28.06Сирил Туши снимет фильм о Джулиане Ассанже
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3451729
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2343361
- 3. Норильск. Май 1268591
- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897671
- 5. Закоротило 822099
- 6. Не может прожить без ирисок 782247
- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758706
- 8. Коблы и малолетки 740859
- 9. Затворник. Но пятипалый 471252
- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 403068
- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370464
- 12. ЖП и крепостное право 361764

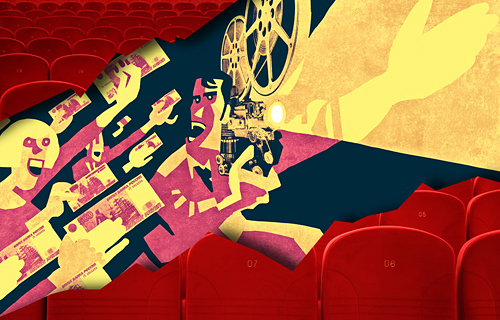
Бедный-бедный, советский физик Фейнберг, член-корреспондент АН СССР!!! Если уж искусство что-то переводит в аксиомы, то это капут.