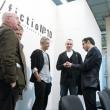Режиссер ЭДУАРД БОЯКОВ, издатель АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, архитектор ЕВГЕНИЙ АСС, галерист ВЛАДИМИР ОВЧАРЕНКО и представители от OPENSPACE.RU ЕКАТЕРИНА ДЕГОТЬ И ГЛЕБ МОРЕВ собрались на ярмарке non/fiction, чтобы обсудить, расцветет ли художественный мир во время кризиса миллионом благоуханных цветов
Глеб Морев: Одним из поводов для того, чтобы сформулировать нашу тему так, как мы это сделали, послужило высказывание Даниила Дондурея, который, говоря об индустрии кино и о потенциальном влиянии экономического кризиса на кино, сформулировал, казалось бы, парадоксальную мысль о том, что для российского современного кино экономический кризис будет благотворен, что уйдут лишние развращающие деньги и кинопроцесс подвергнется благотворной очистке. Я бы хотел услышать от сегодняшних гостей, представителей разных культурных индустрий, так ли это. Какими им видятся перспективы развития близких им областей культуры?Я знаю, что, например, Эдуард Бояков закончил или почти заканчивает художественный фильм. Согласен ли ты с мнением Дондурея?
Эдуард Бояков: Я думаю, что очень опасно отталкиваться исключительно от своего опыта, когда рассуждаешь на такие темы, как кризис в экономике, кризис или, наоборот, расцвет в искусстве. Шедевры возникают и во времена сильных кризисов, и во времена экономических расцветов. В общем-то, здесь, наверное, есть какая-то очень сложная закономерность, но она не на уровне единичной творческой биографии. Я делаю фильм и делаю. К счастью, основные траты уже прошли. Что касается киноиндустрии, то она, конечно, очень сильно сейчас будет страдать. Я уже знаю, что очень много представителей киношных профессий начинают переживать по поводу того, что они лишатся работы. Увеличится конкуренция — это хорошо, уменьшится количество денег — это плохо. Для затравки нашего разговора я позволю себе такое умозаключение: для разных видов искусств кризис, наверное, будет означать разное. Больше всего пострадает, мне кажется, изобразительное искусство, если говорить именно о рынке. Фондовый рынок рушится, и изобразительное искусство как рыночная система очень сильно пострадает, это очевидно. Пытаются, конечно, какую-то мину наши коллеги сохранить при этой игре, рапортуют о том, что 50% лотов продано на лондонских торгах, но это антикварные ценности, если не антикварные, то исторические. А что касается современного искусства, конечно, рынок рухнет. По кино удар будет тоже сильный, но немножечко слабее. Что касается литературы и театра, там ситуация будет приблизительно такой же. Это два вида искусства, которые будут наименее чуткими к кризисным экономическим потрясениям. Литература — потому что это наиболее отрегулированная рыночная среда, а театр — потому что там так плохо, что хуже не может быть. Всё, спасибо.
Екатерина Деготь: Я не собиралась выступать так скоро, но мне, конечно, хочется ответить Эдуарду. Эдуард, вы не правы. Просто совсем, совсем, к счастью для нас. Дело в том, что визуальное искусство как раз из тех, кто наиболее легко перенесет эту ситуацию. Это единственная зона, которая не совпадает со своим рынком. Не существует некоммерческой, непродаваемой литературы. Просто никакой, за исключением той, которая вывешивается в интернете. Книга, чтобы прийти к читателю, уже проходит коммерческий фильтр, какой бы то ни было. Человек, который ее публикует, так или иначе взвешивает риски. Точно такая же ситуация, конечно же, и с кино. Рынок там является предварительным фильтром. Поэтому, к сожалению, очень многие вещи даже и не пишутся, потому что автор знает, что они этот фильтр никогда не пройдут.
Но произведение искусства может быть сделано за счет средств художника и не быть проданным в течение десятков лет и при этом находиться в культурном поле, быть шедевром, войти в историю искусства и так далее, этому множество примеров. Рынок современного искусства — это вообще лишь подмога для него, но не форма его существования. Современное искусство имеет особое устройство, благодаря чему на эту территорию переползают и литераторы, и кинематографисты, которые создают нечто заведомо не мейнстримное типа заумной поэзии. Потому что у нас продается уникальное произведение, а не тираж, и искусство свободно от диктата потребителя, очень сильного во всех остальных, тиражных видах искусства.
Причем «коммерческое» и «некоммерческое» у нас — это вовсе не «плохое» и «хорошее», это две разные зоны, которые сотрудничают между собой. Вот мы с Владимиром Овчаренко представляем обе, у нас чрезвычайно дружеские отношения, и у наших этих двух зон тоже, эти две зоны уважают друг друга, учитывают друг друга, и коммерческая зона (галереи) всегда подчеркивает, что некоммерческая зона (музеи, кураторы, критики…) важнее. И поэтому мы, в принципе, такие уже эпохи проходили, когда искусство делалось, но не продавалось. Так было в девяностые годы, когда наши художники делали свои лучшие вещи, и вы, может быть, даже и не знали, что что-то не продавалось, потому что это не важно, это уже проблема галериста, но не искусства.
Обе зоны современного искусства такие времена проходят очень солидарно, и мы знаем, что надо делать в таких ситуациях. Вещи делаются и показываются благодаря самоотверженности наших галеристов, которые готовы в этот период как-то продержаться, все-таки делая выставки. Искусство будет создаваться и будет показываться, а то, что оно не будет продаваться сейчас, — так это не единственный модус существования искусства, и во многих случаях это даже не так важно. Может быть, Владимир меня поправит. Проблема всей нашей культуры, мне кажется, в том, что (не только у нас, кстати, в стране) в последние годы полностью уравнялось представление о культуре и о рынке культуры, в то время как это не одно и то же. Рынок не покрывает всю культуру.
Владимир Овчаренко: Я думаю, Эдуард просто специально подтолкнул Катю, и она на эту баррикаду бросилась. Я, конечно, на Катиной стороне. Галерея «Риджина», которую я представляю, была создана в 1990 году, когда ни о каком арт-рынке речи не было, до 2000 года он ни в какой форме практически не существовал, поэтому я и мои коллеги, и XL, и Айдан, и Гельман, мы готовы к любым ситуациям, к любому развитию событий. Вопрос: предпринимать какие-то действия в этих условиях кризиса? Я думаю, что мы должны признать, что пена, образовавшаяся в различных углах как арт-бизнеса, так и культуры, так и политической жизни страны, она будет потихонечку где-то оседать. Допустим, я за последние две-три недели не видел ни одного выступления группы «Наши». Что-то как-то их не слышно, где они, о чем эти молодые люди сейчас говорят и где они денег берут — непонятно.
В поддержку нашего искусства и той территории, которую я представляю, должен сказать, что, в отличие от некоторых других индустрий, которые получают массированную бюджетную поддержку, мы в основном развивались за счет собственных средств. И надо вам сказать, что наш бизнес состоит не только в том, что мы продаем искусство русским олигархам, но и в том, что вокруг наших художников — а их у нас порядка девяти-десяти — сложился какой-то круг коллекционеров, которые живут по всему миру, галереи участвуют в ярмарках, тоже по всему миру, и, собственно говоря, вот здесь для нас очевидный потенциал. Потому что, несмотря на то что цены на русское искусство за последнее время сильно выросли, они все равно по сравнению с западными аналогами в десятки раз меньше, поэтому для любого человека-любителя, не инвестора, любителя искусства с Запада цены на русских художников достаточно приемлемы, за исключением, может быть, пяти-семи очень дорогих художников, у которых все сложилось так из-за вкусовых предпочтений русских покупателей. Вы все знаете, что цены на Айвазовского не имеют никакой поддержки со стороны западных людей, никакого понимания, почему он столько стоит, хотя Эдуард подчеркнул, что, конечно, антиквариат в этих условиях будет жить замечательно. Не знаю, здесь мы посмотрим.
Поэтому мы будем сражаться, биться и поддерживать наших художников, как делали, собственно, эти 20 лет. Сейчас мы каждый день собираемся, смотрим на цифры и понимаем: так, этот художник будет жить спокойно, у него есть еще нормальные запасы, нам не надо их чем-то поддерживать. Сейлы замедлились, но идут. Больше стало западных покупок, меньше стало русских, это верно. Но комета не врезалась, третья мировая война не началась, не объявили, что нефть вся закончилась, не объявили, что хлеба больше собирать не будут. Просто сейчас время, когда определяются новые пропорции существования разных ценностей, разных видов активов. Однажды оно закончится.
Я думаю, что искусство — это вечная категория. Конечно, как сказал Илья Кабаков, в будущее возьмут не всех, — но нужно сражаться за тех, у кого есть потенциал в него попасть. Так что будем относиться селективно, что мы всегда и делали. {-page-}
Глеб Морев: Я думаю, что наряду с областью современного искусства, наверное, область современного строительства, архитектура была столь же накачана деньгами. Микрофон Евгению Ассу.
Евгений Асс: Архитектура и правда была переполнена деньгами в последнее время. Я бы предложил посмотреть на архитектуру в трех измерениях, тех измерениях, в которых она существует. Существует архитектура как рыночная деятельность, как бизнес, где действуют инвестиции, где действуют архитектурные бюро и происходит циркуляция денег. Существует архитектура как культурная деятельность, и это самостоятельная, более или менее, сторона существования этой профессии, — это касается образования, экспериментального проектирования, науки, того, в общем, что относится к области профессиональной культуры. И третье — это форма существования архитектуры как материального факта, как уже состоявшейся материи в городе.
Если рассматривать архитектуру в этих трех проекциях, то самый большой удар, конечно, будет нанесен по первой составляющей, т.е. по архитектуре как бизнесу. Уже сегодня можно сказать, что количество заказов резко сократилось, инвестиционный пресс заметно снижается. Я сам уже уволил двух сотрудников даже из своего небольшого бюро. Это означает, что дела, собственно, у архитекторов, которые работают в архитектурном бизнесе, в общем, идут не очень хорошо и, по-видимому, в ближайшем обозримом будущем будут еще хуже. И это, пожалуй, самая плохая сторона вопроса. Но в двух других областях, двух проекциях архитектуры, на мой взгляд, нас ждут какие-то приятные новости. Во-первых, в отсутствие конкретного заказа архитекторы начинают думать, чего они не позволяли себе довольно давно. Целиком занятые перемалыванием средств этого гигантского денежного мешка, архитекторы вообще забыли, как думать.
Надо вспомнить, что самые яркие проявления архитектурной мысли, во всяком случае в ХХ веке, были связаны как раз с бедными временами. Русский конструктивизм был просто весь в нищете, он существовал вне области строения. Следующий всплеск русской архитектурной мысли пришелся на семидесятые — начало восьмидесятых, когда была так называемая бумажная архитектура, заказов не было, а архитекторы занимались порождением интеллектуального продукта. На мой взгляд, ситуация безденежья может заставить архитекторов задуматься о том, чем же, собственно говоря, они до сих пор занимались. Потому что занимались они во многих случаях, конечно, ерундой, а даже когда и чем-то полезным, то вне нормальной, конструктивной системы.
И вот здесь надо говорить о третьей составляющей, т.е. о результатах архитектурной деятельности. И тут есть надежды на то, что благодаря финансовому кризису говна на наших улицах все-таки будет меньше. Есть предположение, что эта чудовищная архитектурная разнузданность все-таки поутихнет. Поутихнет она хотя бы потому, что инвесторы не будут, не смогут вот так нагло и бесцеремонно вторгаться в городскую среду. Потому что город, скажем, Москва, вообще-то говоря, с трудом выдерживает инвестиционный пресс. Такое впечатление, что количество строительства уже зашкаливает, и плотность его явно была превышена. Мне кажется, что этот кризис может заставить нас подумать еще и о том, а сколько вообще нужно строить, так ли много нужно строить. Конечно, я говорю об этом с некоторым внутренним содроганием, потому что меньше строить — меньше заказов — меньше денег — труднее жить. Но, с другой стороны, в какой-то разумной, экологической, социально-ответственной перспективе, мне кажется, что строительство сегодня не служит решению социальных вопросов — это способ перемалывания средств. Это самодостаточный механизм производства площадей. Жилищное строительство в Москве — вообще глубоко антисоциальное явление: дома, в которых никто не живет, но которые все раскуплены, — окна в них всегда темные. Вот, на мой взгляд, в этом отношении кризис будет чрезвычайно полезен. Он поможет нам, — я надеюсь, по крайней мере, архитекторам, градостроителям и муниципальным деятелям, — осознать какую-то норму и меру необходимого и достаточного в городском производстве. У меня такие перспективы.
Глеб Морев: Здесь, в ЦДХ, нельзя не думать о том, что именно кризис, может быть, дает нам надежду, что последующие ярмарки non/fiction состоятся в этом здании, Центральном Доме художника. И что на месте ЦДХ не будет возведен дом «Апельсин». Если будет так, то это одно из благотворных последствий кризиса. Я думаю, очевидно, что нынешняя ярмарка non/fiction пышнее остальных, предыдущих. И это говорит кое-что о том, как развивалась книготорговля, издательская отрасль к 2008 году, к какому состоянию она пришла. Встреченный мною здесь полчаса назад профессор Роман Тименчик, крупнейший специалист по искусству Серебряного века, сказал, что все это очень напоминает 1913 год.
Я хочу обратиться к Александру Иванову: как на твой взгляд, не обманывает ли Тименчика интуиция?
Александр Иванов: Я думаю, это абсолютно точное сравнение. Ловлю себя на том, что мне, пожалуй, кажется, что об этой ситуации, очень условно названной кризисом, гораздо продуктивнее думать не тактически, а стратегически и апокалиптически. Вчера, например, я получил от одного из авторов нашего издательства, Арсена Ревазова, который одновременно является владельцем довольно крупной рекламной компании, такой странный имейл, который можно назвать «письмом несчастья». Совершенно не спровоцированный имейл, где он пишет о том, что, по его мнению, происходит сейчас в стране и о чем мы не сильно задумываемся. Например, в следующем году количество телевизионной рекламы уменьшится в десять раз. Можете себе представить, что это означает для телевидения. Но бог с ним, с телевидением, его мало кто смотрит из здесь присутствующих. Но мы плохо себе представляем, что сейчас, пока мы ведем светский разговор, не работает завод ВАЗ, не работает завод ГАЗ и не работает большая часть сталелитейной промышленности страны. Мы с трудом себе представляем, что, по разным оценкам социологов и бизнесменов, в феврале — марте в Москве будет от миллиона до полутора миллионов безработных. И вопрос, скорее, не в том, будут ли покупать книжки или произведения искусства, вопрос гораздо более серьезный. Вопрос, который на социальном уровне звучит так: насколько мы готовы жить бедно? Пусть не абсолютно бедно, а относительно. Насколько мы психологически подготовлены к личной бедности? Это, мне кажется, самый важный сегодня вопрос.
Если уж совсем приближаться к книжкам, то я всем рекомендую купить одну, пусть достаточно наивную, но по-своему симпатичную книжку, изданную издательством «Текст» примерно три-четыре месяца назад. Эта книга написана человеком, которого зовут Александр фон Шёнбург, он аристократ, из разорившейся немецкой аристократической семьи. Текст называется «Искусство стильной бедности». В этой книге он как бы примеряет бедность на себя. Насколько, задается он вопросом, продуктивно быть бедным? Насколько бедный человек потенциально и реально более стильный, более модный, нежели человек богатый? Насколько больше чисто человеческих, гуманистических ресурсов в бедности, нежели в богатстве? В богатстве не как в экономической характеристике, а как в некотором человеческом состоянии. Я думаю, что один из моментов сегодняшнего кризиса — это стоящая перед каждым проблема: что делать с тем образом богатства, образом состоятельности, или, как любит говорить один из бывших авторов моего издательства, Владимир Сорокин, типом «состоявшегося и состоятельного человека», — насколько именно этот тип сейчас находится под вопросом. Насколько такого рода лексика будет соответствовать нашему существованию, нашему представлению о мире и о себе через несколько месяцев? Я думаю, не будет соответствовать вовсе.
Я думаю, что Россия и весь мир впали не просто в какой-то очередной кризис, а впали в кризис, подобный тому, что разразился в 1914 году. Мне кажется, впереди нас ждут многолетние тяжелые испытания, и здесь я задаю себе такой вопрос: без чего я, например, как культурный потребитель, не могу обойтись? Я думаю, что совсем без немногого. Пара десятков книг, несколько дисков. Без чего я действительно не могу обойтись, так это без, опять же, не слишком широкого круга общения с друзьями и близкими людьми. Я думаю, такую ревизию собственных потребностей полезно осуществлять в настоящий момент.
Что касается книжного дела и книжного рынка непосредственно, то я думаю, что если этот большой контекст апокалиптического видения кризиса имеет какое-то право на существование, отражает какую-то реальность, то, скорее всего, книжный рынок обрушится так же, как и все другие рынки. Проблема конкретно нашей ситуации сейчас состоит в том, что этот кризис несопоставимо более тяжелый, нежели кризис 1998 года, потому что здесь, в России, возникла корпоративно-государственная структура рынка и исчезли навыки, которые еще существовали в 90-е годы, — навыки крошечного, маленького книжного бизнеса. Трудно сейчас себе представить наличие маленьких лотков, уличных развалов, переноса пачек книг вручную, например, из издательства на Ленинградский вокзал, чтобы отправить их в Питер. Это трудно себе представить, поскольку антропологический тип, стоявший за этими навыками, исчез. За последние годы исчезла вот эта нужда и потребность в мельчайшем, крошечном бизнесе. Ну, ларьки, например, сейчас в Москве исчезли и вряд ли будут восстановлены очень быстро. И это очень большая слабость нашей современной городской культуры — в том, что почти вымер некорпоративный бизнес и вообще некорпоративные формы деятельности.
И последнее, что я хотел бы сказать: я не совсем согласен с тем предметным различением между коммерческим и некоммерческим в сфере культуры, из которого исходит Катя. Я думаю, что нам трудно провести сегодня границу между коммерческим и некоммерческим. В каком-то смысле то, что мы называем сегодня некоммерческим, очень сильно инфицировано маркетологическим стилем понимания «культурного продукта», ведь писатель и художник сегодня — это не столько производители форм, сколько производители коммуникации, общения, производители не столько искусства, сколько слов об искусстве. И в этом смысле они точно такие же self-промоутеры и точно такие же бизнесмены, как и все остальные игроки современного культурного пространства. Сегодня некоммерческое — это не некое качество, присущее тому или иному произведению (мы прекрасно знаем, что любое некоммерческое произведение может быть утилизовано рынком). Это, скорее, некое мгновение, неутилизуемое, некапитализуемое переживание, которое живет в очень странном пространстве субъективного, сочувственного взгляда на произведение искусства. В этом смысле этосу капитала, этосу «ценности» может противостоять только этос сокровища как такого состояния, которое невозможно ни на что обменять, в том числе и на слова о нем, на коммуникацию вокруг него. {-page-}
Глеб Морев: Когда Саша говорил об обаянии будущей бедности, Катя не в микрофон сказала фразу: «Ведь мы уже были бедными». Не будет ли это будущее потенциальное состояние в культурно-антропологическом смысле просто опытом возвращения, культурной репликой?
Екатерина Деготь: Я в принципе полностью согласна, я бы даже еще более радикально сказала. Когда ты, Саша, начал говорить, мы тут же с Володей сказали друг другу, что пять лет назад ты сам сидел в небольшом подвале и вообще все это было нормально. У нас в искусстве, кстати, сохранилась та ситуация, когда что-то относится просто вручную на вокзал. Даже большая галерея продолжает оставаться малым бизнесом, в котором люди все делают сами.
Кстати говоря, в последние годы было много разных тетенек, которые хотели открывать галереи, но так, чтобы самой ничего не делать. Вот я найму как бы галериста, но галеристка буду я. Я всем им объясняла, что так невозможно, в нашей сфере это не работает. Галерист не обязательно сам должен все это таскать физически, но он должен этим заниматься. Не существует такого владельца галереи, который при этом сам сидит где-то на Гавайях и ничего об этом бизнесе не знает. Даже на Западе этого нет, даже в случае очень больших галерей. Что касается бедности, то я, конечно, боюсь показаться вам какой-то черепахой Тортиллой, но я помню время, когда я голодала, просто реально, такое было, поверьте мне. Это не были лучшие годы моей жизни, но тем не менее это не рассматривалось как что-то такое, что мешает творчеству и уж тем более восприятию культуры. Искусству это не мешало абсолютно никогда.
Правда, здесь я должна обратиться к обществу с некоторой филиппикой. Почему искусство стало модным только сейчас, когда оно стало дорогим? Художники делали вещи гораздо лучше, художники делали отличные свои работы, а вы все говорили, что современное искусство — это какая-то маргинальная зона, это все вообще неинтересно. Сейчас, когда оно стало стоить миллионы и эти же художники стали делать работы гораздо хуже, возникло ощущение, что современное искусство — какая-то модная зона. Но оно было интересной зоной именно тогда, когда эти люди работали за три копейки, и так снова будет сейчас, а все будут считать, что современное искусство вышло из моды.
Александр Иванов: Ну да, пункт расхождения остается, нужно просто почетче его обозначить. Проблема не в том, что рынок начинается там, где за что-то платят деньги. Существует такая странная возможность, выраженная в русском языке словом «продажный». Это не значит, что что-то реально продается. Оказывается, можно быть продажным «в себе». Это такая странная, философским жаргоном выражаясь, «трансцендентальная» продажность. Мы видим, что человек пытается сделать что-то, чтобы чему-то соответствовать и кому-то понравиться — при этом он может даже не продаваться, но он уже находится в пространстве некоторой продаваемости «в себе». И вот эта «продаваемость в себе», безусловно, гораздо более опасное явление, нежели просто разделение, казалось бы, очевидное: вот за это заплачены деньги, а за это не заплачены. Если бы так все было просто, мы бы не обсуждали эту тему как действительно очень важную составляющую кризиса.
Что, собственно говоря, находится в кризисе? В кризисе, мне кажется, находится маркетологическая модель культуры, вообще маркетологическая модель общества. Главной фигурой последнего тридцатилетия является менеджер, человек постиндустриального мира, который ничего другого не умеет делать, кроме как улыбаться и продавать, впаривать и улыбаться. Это его профессия, больше он ничего делать не умеет. Я недавно, например, общался по профессиональным нуждам с представительством западногерманской типографии в Москве. Очень симпатичные дамы-менеджеры говорят: «Давайте мы вам напечатаем любую книгу в Германии». Я начинаю с ними обсуждать книгу в понятиях формата, видов переплета и т.д., а они ничего не знают о книге как о продукте конкретного производства, они только впаривают и улыбаются, улыбаются и впаривают. И вот это умение продавать, эта, я бы даже сказал, страсть к продаже всего и вся находится сегодня в кризисе. Потому что в какой-то момент, я думаю, не только интеллектуалы, но и все поймут, что идеальное, да что там идеальное, просто нормальное состояние жизни — это когда мы ничего не покупаем и ничего не продаем, а только создаем и раздариваем. Эти мгновения будут все время расширяться, и когда они займут значительную часть нашего времени и самосознания, мы достигнем какой-то точки счастья, мне кажется.
Екатерина Деготь: Дело в том, что уже это есть. Уже существуют такие движения. Уже многие мои знакомые высказывают желание иметь одну пару брюк и одну пару сапог (правда, не самых дешевых, а, наоборот, самых дорогих), чтобы можно было их носить десять лет и забыть про эту проблему. Ну а уж про то, что надо потреблять меньше еды, и про то, что надо бы вообще-то, исходя из интересов планеты, потреблять меньше воды, — про это уже знают очень многие. Так что, мне кажется, от этого никуда не деться. Но придется мне еще раз от общих проблем обратиться к частным, потому что я чувствую свой долг расставить точки над «i» отчасти даже для публики.
Очень важно понимать, что тот мыльный пузырь, который лопнул относительно изобразительного искусства, — это пузырь вторичного рынка. Эдик, это две совершенно разные вещи. Рынок перепродаж, т.е. аукционы (в том числе и аукцион Дэмиена Хёрста) — там действительно нагнетались самые большие деньги последние годы, — это и есть та самая метастаза, тот огромный гнойный пузырь, который вырос на теле искусства и который реальному функционированию арт-сообщества галерей, музеев, кураторов, критиков только мешает. Там действительно выросли спекулянты — так называемые коллекционеры, которые, купив картину и даже не распаковав ее, отправляли ее на аукцион, чем искусственно завышали или занижали цены. Это рушит всю систему — и финансово, и эстетически, и этически. Таких людей все мы просто презираем. Если это рухнет, нам только легче от этого будет.
Евгений Асс: Я вернусь к бедности. Мне показалось, в контексте архитектуры бедность — важная вещь. Начну с такого примера: мои студенты, которые, скажем, сдают проект, проектируют жилье, они сразу начинают проектировать квартиру не меньше 180—200 кв. метров, они не понимают, что может быть меньше, хотя все они выросли в нормальных квартирах, они в основном не из богатых семей. Но у них есть образ счастья, и образ счастья связан с каким-то избытком, с излишеством. Этот образ счастья, собственно говоря, и доминировал в нашей культуре на протяжении последних лет. Этот образ — образ избыточности. Главные слова прошедшего десятилетия — «элитный» и «эксклюзивный». Мы все время жили в подпитанном магией этих слов мире, в чем-то таком необыкновенном, непростом, все у нас было эксклюзивное. А что такое эксклюзивное? Это уничтоженные, допустим, подмосковные леса и поля. Это эксклюзивные коттеджи и поселки, часто пустующие. Это элитное жилье в центре Москвы, квартиры по 400 метров, которые куплены какими-то тюменскими тайными персонами, — эти квартиры занимают московскую землю, но там никто не живет.
Бедность — это такая же странная вещь, как и богатство. Я бы хотел говорить в терминах, скажем так, здравого смысла и какой-то системы необходимого и достаточного. Бедность — это впадение в ничтожество. Мне кажется, что речь не идет о впадении в ничтожество, т.е. перспектива будущего для меня не связана с голодом и разорением, она связана для меня, скорее, с нашей общей необходимостью вернуться к пониманию необходимого и достаточного. В архитектуре это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что потенциальный заказчик, если еще будут заказы, не будет требовать бессмысленного. Как это часто происходило с моими заказчиками, когда приходит человек и говорит: «Я хочу дом за городом». Я говорю: «ОК, хорошо, какая у Вас семья?» Он говорит: «Тебя это не касается, 1000 метров». Я говорю: «ОК, хорошо, 1000 метров чего?» — «Все равно». Это не просто заказ, понимаете, это некое представление о ценности, которое, мне кажется, должно быть разрушено. Если кризис приведет нас к пониманию необходимого и достаточного, мне кажется, это будет самое здоровое, что произойдет в результате этого процесса.
Еще по теме:
Три вопроса о кризисе, 25.09.2008
Владимир Санин. Медиарынок и кризис: мягкая посадка почти для всех, 14.10.2008
Андрей Лошак. Аривидерчи, нулевые!17.10.2008
Евгения Пищикова. Первые увольнения и туманные надежды, 23.10.2008
Только кризис спасет наше кино, 7.11.2008
- 29.06Продлена выставка World Press Photo
- 28.06В Новгороде построят пирамиду над «полатой каменой»
- 28.06Новый глава Росмолодежи высказался о Pussy Riot
- 28.06Раскрыта тайна разноцветных голубей в Копенгагене
- 27.06«Архнадзор» защищает объекты ЮНЕСКО в Москве
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39041575
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10554697
- 3. Норильск. Май 1307985
- 4. ЖП и крепостное право 1122780
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911204
- 6. Не может прожить без ирисок 863265
- 7. Закоротило 843563
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804240
- 9. Коблы и малолетки 776590
- 10. «Роботы» против Daft Punk 754867
- 11. Затворник. Но пятипалый 530166
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457746