Дэвид Вайс: «Лучше всего – делать хорошее искусство и продолжать делать хорошее искусство»
Екатерина Дёготь ·
16/02/2011
Имена:
Петер Вайс
ЕКАТЕРИНА ДЁГОТЬ поговорила с половиной творческого дуэта Фишли и Вайс об искусстве, интернете, политике и путешествиях. Смотрите начало беседы на видео и читайте текст полностью
© OPENSPACE.RU

Дэвид Вайс
— Дэвид, когда вы проснулись сегодня утром в гостинице, вы сразу вспомнили, где находитесь? Когда я в дороге, мне иногда на это приходится потратить несколько секунд.— Нет, у меня такого нет. Я всегда знаю, кто я и где я.
— Но вы ведь, наверное, много путешествуете?— Да нет, не то чтобы. Знаете Ханса Ульриха (Обриста. —
OS)? Вот он много путешествует, я меньше. Но по сравнению со многими швейцарцами я, конечно, просто не вылезаю из дому.
— И везде вы по-прежнему фотографируете аэропорты? Это одна из моих любимых ваших серий (принципиально «нехудожественные», анонимные снимки припаркованных самолетов, транспортных тележек, пустых трапов и т.п. — OS).— Да, в Москве снял аэропорт в снегу, очень красивый. Я снимал аэропорты по всему свету. Когда их будет достаточно, мы планируем издать эту серию книгой. Не знаю точно, но думаю, там будет около 800 аэропортов. Знаете, обычно в аэропорту есть время. Всегда приходится ждать.
— Мне это ожидание, этот дар времени очень нравится, особенно в самолете. Никто тебе не звонит, почту проверить не можешь, и теоретически есть время подумать...— Ну, скорее я просто делаю фотографии и читаю газеты.
Читать текст полностью
— К вопросу о газетах: сегодня, когда медиа находятся в центре нашей жизни, вы по-прежнему чувствуете, что у современного искусства есть причина существовать? Когда во времена Бодлера рождалось современное искусство, все вокруг было историческим, консервативным, но сейчас это уже не так. Люди не помнят, что было вчера, не говоря уже о том, что было год назад. Вам не кажется, что мы живем только в «теперь»? И если это так, то как современное искусство может чем-то отличаться на общем фоне?
— Я думаю, что новые технологии позволяют быстро передавать информацию, но современное искусство может оставаться современным — так или иначе, оно всегда имеет дело с тем, что происходит сейчас. Не думаю, что художников сегодня пугает перспектива исчезновения искусства или того, что называют искусством. Художник делает свое дело и будет делать, и пока существуют какие-то люди, которым это интересно, пусть очень немногие, а у художника есть возможность и желание сообщить что-то, это сообщение будет происходить.
— Но как художник может отличить себя от других людей, которые тоже снимают аэропорты и выкладывают их на YouTube? Вы не чувствуете в их лице опасность или вы с ними солидарны? Или художников поддерживает и защищает институциональная система и в этом основа их идентичности и независимости?
— Но мы ведь проводим время в работе над этим проектом. Мы делаем снимки, потом смотрим, отбираем, принимаем решение. Художник всегда должен принять решение о том, что нечто является важным, для него и для других. Художник работает и живет с этим. Конечно, и другие люди могут фотографировать аэропорты. Когда-то получаются удачные снимки, когда-то нет. Но смысл в самой коллекции этих снимков.
— То есть различие заключается в том, что вы инвестируете в это больше времени?
— Да, и в том, что мы заявляем, что это искусство. Кто-то, может быть, не согласен, что это искусство, тогда можно устроить дискуссию.
— Но ваши работы как раз отражают это новое состояние мира. Я была в восторге от вашей инсталляции в Венеции в 1995-м — она была о том, что все снимают видео, например, своей семьи, но никто потом не смотрит их целиком. Все вокруг нас — художники. Но тогда кто такие художники? Тот, кто просмотрел это от начала до конца. Ведь вы были единственными, кто просмотрел это целиком. И вы могли бы поместить в это видео какую-то сцену убийства, например, но этого бы никто не заметил, а вы бы знали об этом, как о зарытом кладе.
— Да, могли бы, но мы этого не сделали.
— Верю, но проверить не могу.
— Мы не изобретаем вещи, мы исключительно пассивны. Просто пытаемся смотреть, что происходит вокруг через этот особый глаз — объектив камеры. И никогда не оставляем камеру снимать что-то без нашего участия — мы снимаем ровно то, что нам интересно.
— Но если у вас есть интерес, вы не пассивны.
— Да, интерес есть, но мы не вмешиваемся в происходящее, мы делаем особенным некий момент в потоке происходящего. Мы много ездили; глядя в камеру, выбирали этот особый момент. Ездили куда-то в горы, гуляли там, снимали коров…
— В целом кажется ли вам, что в последние годы арт-мир сильно изменился?
— Можно фокусироваться на различиях, но я бы отметил, что остается неизменным — у нас по-прежнему есть музеи, кураторы. Отличие в том, что теперь мы сами больше ездим, выставки тоже, но это изобретение позднего XIX века, когда появились кунстхалле и художники стали возить картины в другие города. Кунстхалле организовывались, как правило, группой художников, которые хотели сделать выставку и стали приглашать другие выставки, обмениваться ими. Тогда были изобретены кураторы, директора этих кунстхалле. До этого люди могли прийти посмотреть искусство только в мастерской художника, а теперь это были общественные пространства для показа искусства. И тогда появилась практика путешествий произведений искусства.
— Да, у нас тоже был такой феномен, называется «передвижники»… А эти выставки были коммерческими?
— Честно говоря, я не знаю, но художникам нужно было как-то жить…
— Да, но ведь для Эдуарда Мане, например, было важно, что его картина продается в Салоне, его картины именно об этой новой «продажности». Своей картиной «Олимпия» он как бы говорит: да, это проститутка, она продается, и эта картина, которая тут выставлена на всеобщее обозрение, — проститутка тоже; посмотрим, как это можно выразить в самом искусстве. И художники работали с этим, пока это не перестало быть интересным. По-моему, это уже неинтересно. Шутки, когда художник говорит, что его работа — это просто товар, уже не смешны. А вы изобрели какие-то новые способы быть интересными?
— Время покажет, что остается, а что нет. Ценности меняются. Возвращаясь к вопросу об отличиях: сейчас существует огромное количество журналов по искусству. Это то, что изменилось. И интерес к искусству у разных групп людей растет — не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что мы, художники, должны фокусироваться на том, что мы делаем, и не придавать слишком большого внимания политике в сфере искусства.
© OPENSPACE.RU

Дэвид Вайс
— Вы не чувствуете давления творческих индустрий, дизайна, рекламы?
— Я думаю, проводить различия между одним и другим — часть нашей работы. Конечно, другие художники могут взять и уйти в рекламу, но, на мой взгляд, это не помогает. Искусство делается в мастерской, а не в офисе.
— Но есть ли такие выставки, в которых вы не стали бы участвовать, потому что они финансируются, например, производителем автомобилей и показывают искусство на темы, как-то связанные с машинами? В России, например, очень часто именно так смотрят на современное искусство — как на рекламу для спонсора.
— Я не знаю ситуацию в России. Художникам нужно выживать, поэтому, возможно, у них нет выбора. Но я бы предпочел избежать этого пути. Потому что, на мой взгляд, это вредит искусству.
— Какой вообще совет вы бы дали начинающим молодым художникам — как сочетать финансовое выживание и искусство?
— Нужно найти поле своего интереса и сфокусироваться на этом. Не спрашивать у других, что тебе лучше делать.
— В профессиональном смысле — да. Но в смысле финансового выживания что лучше: делать какие-то работы на заказ, чтобы потом заниматься уже настоящим искусством? Или зарабатывать чем-то совсем не относящимся к искусству? Надо сказать, что в советском неофициальном искусстве обе модели работали.
— Лучше всего — делать хорошее искусство и продолжать делать хорошее искусство. Я не думаю, что тут есть какие-то правила. И потом, если вы всех научите, дадите готовое решение двумстам студентам, — хватит ли им места в искусстве?
— Исходя из своего советского опыта я им советую, что в начале карьеры лучше зарабатывать чем-то совсем другим, нежели делать на заказ что-то близкое к искусству — например, рекламу или фэшн-фотографию.
— Да, я абсолютно согласен. Но, с другой стороны, это один путь, а их так много… Для кого-то неплохо быть ассистентом известного художника, для другого — это слишком близко, каждому свое.
— Да, кстати, неплохая идея, этого я им не советовала, потому что у нас это пока не очень принято.
— А мы можем остановить видеозапись? Я бы не хотел вообще быть в интернете, потому что это абсолютно бесконтрольная вещь. И если говорить об изменениях, то интернет действительно многое меняет. Можно пользоваться чужими изображениями, и меня, скажем, это не особо волнует; меня вообще интернет не пугает, но сеть ничего общего не имеет с искусством, это сеть: ты можешь украсть что угодно, но это не перестанет быть украденным.
— Простите, что спрашиваю, но мне интересно — вы не хотите лично присутствовать в сети или не хотите публиковать там и свои работы? Казалось бы, они как раз об этой новой анонимности и сделаны…
— Просто никогда не знаешь, где это окажется. Мы сделали этот известный фильм Der Lauf der Dinge, и теперь он повсюду.
— Я думала, это было ваше решение? (Фильм Der Lauf der Dinge — один из немногих в арт-видео, копии которого находятся в свободной продаже и стоят дешево; его дистрибуция не ограничена несколькими оригиналами, которые продаются через галерею, как это бывает обычно. — OS).
— Да, мы это сделали вместе с Петером, решили, что это массовый продукт, и не смогли остановиться. Все прекрасно. Но то, что запишете вы, я же не могу проконтролировать.
— Я вам пришлю ссылку. У меня-то как раз другое чувство по отношению к интернету: мне кажется, это огромная помойка, где есть все и ничего нельзя найти, поэтому мне-то все равно. Мне вспоминается русский авангардный поэт Велимир Хлебников, который, открывая утреннюю газету, спрашивал: «Есть ли что-то мое?» — в смысле, не опубликовано ли каких-то его новых стихотворений (которых он не писал). И это очень напоминает современный интернет. Мы запускаем интернет и смотрим, есть ли там что-то «наше».
— Да, это хорошо. Но это для него хорошо. А мы всегда отказываемся давать интервью телевидению, и, как правило, люди из медиамира не понимают, почему мы не хотим находиться перед камерой. Им кажется, что все или хотя бы 98 процентов людей только и мечтают об этом.
— Да, я тоже начала отказываться от телеинтервью. Когда меня спрашивают почему, я не скрываю, что воспринимаю результаты их труда как нечто очень глупое, в чем я не хочу участвовать.
— Разумеется, медиа функционируют в соответствии с тем, чего хотят люди. Но, возвращаясь к вашему вопросу, каждый художник должен сам решать, гнаться ему за медиа или избегать их. Например, Йозеф Бойс всегда был окружен операторами, и в этом тоже было его послание. Не знаю, хорошо ли он себя чувствовал перед камерой, но я нет.
— А каково ваше отношение, личное и художественное, к тому, что все окружено медиа? Можно ли сказать, что мы все еще находимся в авангарде или устремлены к нему, — что означает нахождение где-то далеко впереди? Или мы живем в ситуации искусства сопротивления, — что означает, что город уже захвачен врагом и мы можем только, образно говоря, вести партизанскую войну?
— Это индивидуальный выбор художника, где ему быть.
© OPENSPACE.RU

Дэвид Вайс
— А для вас лично слово «авангард» еще имеет какое-то значение? Потому что для меня ваше искусство — это в очень большой мере продолжение «Черного квадрата».
— Спасибо за комплимент, но мы никогда не решали, что нам следует делать. Никогда не задавались вопросом, что должно быть после «Черного квадрата». Мы просто знали, что хотим делать. Нас иногда спрашивают, думали ли мы о Французской революции, когда делали Der Lauf der Dinge. Если вы там ее видите, о-кей, но мы не хотели сделать иллюстрацию к Французской революции. Да, для кого-то это образ одной революции, следующей за другой. Но мы не имели в виду именно это, так же как и продолжение «Черного квадрата».
— На мой взгляд, вас роднит с авангардом позиция: не давать зрителям то, чего они ожидают. Малевич вместо розовой бабы подсовывал зрителю черный квадрат, вы каким-то образом тоже фрустрируете аудиторию. Может быть, не в Der Lauf der Dinge, но в венецианской работе точно — зритель не может составить ясного представления о каждом фильме, потому что они идут одновременно, и за всем не уследишь. Это авангардная позиция, но я не знаю, насколько она возможна сегодня. Потому что многим сегодня даже нравится испытывать фрустрацию.
— Некоторых фрустрирует тот факт, что они не могут посетить за одну ночь все дискотеки в городе.
— Да, ваша работа как раз об этом. Но многие сегодня предпочитают если не «Черный квадрат», то, скажем, только черный и белый цвет. Это фрустрация, которая превращается во вкус. Фрустрировать зрителя становится все сложнее и сложнее, потому что ему это все нравится.
— Конечно, здорово говорить в Москве о «Черном квадрате», но, мне кажется, это завершившаяся история — мы живем после и не можем вернуться в ту ситуацию.
— Кажется ли вам, что ваше искусство сопротивляется чему-то — массовой культуре, медиа или чему-то еще?
— Художник делает какой-то продукт, любой, и является своим первым зрителем. И он думает, с кем этим нужно и можно поделиться: с друзьями, специалистами или с массовой аудиторией? И если он понимает, что его интересует массовая аудитория, ему нужно в Голливуд, нужно снимать блокбастер или работать на телевидении. Но это не мне решать, каждый сам принимает решение.
— Но искусство по-прежнему зависит от своей аудитории, которая на Западе сравнительно большая. Потому что у нас-то нет.
— Конечно, везде есть массовая аудитория, но вы не знаете, о чем она думает. Но мы стараемся сфокусироваться на собственной работе, связать ее с тем, что делают другие художники. Мы общаемся, ходим в музеи, старые и новые, иногда встречаем какие-то хорошие вещи. Вообще, жить в искусстве, впечатляться одним, иметь мнение о другом — это особое удовольствие, дарованное нам. Массмедиа и высокие технологии — это то, с чем нужно жить, и каждый сам решает как. Мне нравится говорить, но не нравится, как это потом используют массмедиа. А что касается вашего вопроса о том, в чем состоит роль искусства, его функция… Не знаю. Художники были всегда; возможно, они исчезнут.
— Именно это мне и представляется нашим будущим. Вам кажется, они могут исчезнуть?
— Ну, они постоянно исчезают… На самом деле, если вы посмотрите вокруг, вы наверняка обнаружите людей, которые делают нечто, что притягивает ваше внимание. И в наших проектах — пока мы видим интерес к ним, эта энергия возвращается к нам, и мы с ней работаем. В какой-то момент мы понимаем: достаточно, нужно найти что-то другое, не менее интересное.
— Значит, вы находите что-то, что занимает, интригует вас, возбуждает интерес, и пытаетесь выразить эту загадку? Таков ваш метод?
— Да, наша задача — из этой коллекции снимков (речь идет о проекте, показанном на выставке «Когда наступает сейчас» в «Гараже». — OS) сделать цельную работу. И нам нравится ее показывать, делиться этим, получать реакцию. И когда люди нам рассказывают, что они увидели и поняли, мы тоже реагируем. Так что искусство не исчезает, оно, может быть, становится более сложным, оно исчезает в теории — исчезают какие-то имена или тренды.
— Вы не преподаете?
— Нет, это нужно делать ответственно, концентрироваться на этом, а время-то идет.
— А собственные кураторские проекты не делаете?
— Однажды мы пытались представить старое африканское искусство из одной коллекции. Нас попросили, и нам это очень понравилось. Мы были совершенно не в теме, но материал был очень фактурный. И мы решили не углубляться в изучение этой темы, а только смотреть и обсуждать.
— Вы скомбинировали это с чем-то другим?
— Нет, от нас ждали чего-то безумного, но мы составили почти классическую выставку. Мы отнеслись к этим вещам как к произведениям искусства, и, что удивительно, они сами диктуют свое место: когда ты оказываешься в зале, то немедленно понимаешь, куда это поместить. Но никакой особой концепции у нас не было, никаких карт или подробных текстов. Мы показали эти вещи как искусство, а не как антропологические памятники, и нас за это потом критиковали. Для специалистов мы перемешали вещи из разных географических регионов.
— А что вы думаете по поводу современного политически ангажированного искусства?
— Если это хорошее искусство и у него при этом есть ясная политическая позиция, это абсолютно о-кей. Но я бы сказал, что очень сложно сделать политическое искусство и хорошее искусство одновременно. Я думаю, что, если кто-то хочет работать в политическом поле, ему нужно работать в сфере политики — делать плакаты и фокусироваться на своих политических задачах. А искусство — это нечто другое, хотя иногда они могут взаимодействовать.
— Понятия «авангарда» или «искусства сопротивления» не входят в ваш словарь. А как вы описываете свое искусство, к какой традиции себя относите? Концептуальной?
{-tsr-}— Я не знаю. Конечно, всегда есть названия, слова, но такие ярлыки обычно навешивают критики. Некоторые художники сами увлекаются теорией и подробно излагают свои позиции, но мне не кажется, что необходимо как-то называть то, что мы делаем.
— Ваши работы действительно очень разные, и, я должна сказать, это во многом напоминает русское искусство, его чувство юмора и образ мысли, в том числе и литературную традицию. Русская культура ведь известна своей литературоцентричностью. Ваши работы во многом построены на языке. Вы никогда не переживали, что слишком литературны?
— Нет. Но я бы согласился с тем, что сам способ демонстрации наших фотографий — не на стене, а на столе — он предполагает, что ты садишься за стол писать или рисовать и твои мысли сконцентрированы на этом столе, а не витают где-то. Нарратив всегда есть в том, как происходят вещи. Как у книги есть начало и конец. Потому что книга — это линия, и ты шаг за шагом куда-то движешься.
— Но в медиакультуре эта линейность тоже исчезает. Телевидение — это мгновенно возникающий образ. Но ваше искусство, конечно, существует в мире, где буквы еще присутствуют, и мне это нравится.
— Этому есть причина — мы ведь много разговариваем. Вот сейчас, например, язык позволяет нам вести беседу.
Москва, 7 февраля 2011
Благодарим отель «Ритц-Карлтон» за помощь в организации интервью
Перевод с английского Екатерины Лазаревой
Комментарии
Читать все комментарии ›



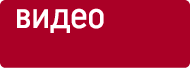






Мне очень нравится такая позиция. Он готов признать чьё-то право не видеть в своём творении искусства.