Просмотров: 14577
Денис Гуцко. Домик в Армагеддоне
Варвара Бабицкая ·
22/04/2009
Русская утопия. Или антиутопия – это до конца остается непонятным. Так писывал Шихматов богомольный, так писывал и Сорокин, и вообще так принято
© Тимофей Яржомбек / Коллаж OpenSpace.ru
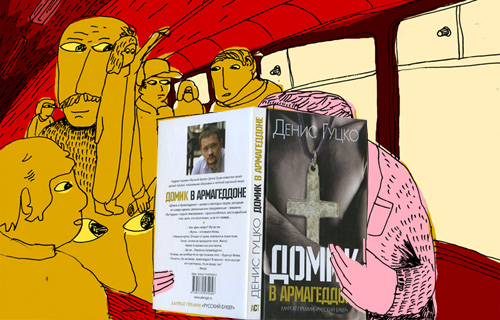
Роман Дениса Гуцко «Домик в Армагеддоне» можно использовать на каких-нибудь литературных курсах как учебное пособие. Книжка написана по всем правилам крепкой толстожурнальной прозы. Пробный камень стиля, как известно, описание родной природы. Всякий молодой русский прозаик с серьезными намерениями во втором абзаце романа обязан новыми красками написать травинку и лесок и в поле каждый колосок. Лауреат премии «Дебют-2007», Станислав Буркин в своей второй книжке, правда, отдает предпочтение урбанистическому пейзажу, но он работает в русле европейской традиции. А вот у Дениса Гуцко в этом отношении комар носу не подточит — хоть сейчас диктуй пятиклассникам:
«За окнами как в духовом шкафу. Политая золотистым солнечным сиропом, жарилась зелень газонов и аллей. Новенькие крикливые воробьи, не находя в себе сил задержаться на одном месте дольше чем на секунду, суетливо обживали южное лето. Над мачтой «крокодила» трепетало дремотное марево, дурманя и убаюкивая. Двое дневальных скребли граблями лужайку, собирали нарубленную газонокосилкой траву. Трава нарублена мелко, и движения дневальных мелкие, дерганые — вычесывают огромную изумрудную шкуру, разложенную на просушку».
Читать текст полностью
«Домик в Армагеддоне» — это поучительная история про мальчика Фиму, который от обиды на оставившего его в детстве отца, а также от скуки и убожества провинциальной жизни, взыскуя истины, вступает во «Владычный Стяг» — юношескую организацию, ставящую своей целью защиту церкви, что бы это ни значило. «Первое, что объясняют каждому новичку: Стяг — не православные бойскауты, как выли шакальи радиостанции, Стяг — дело для настоящих мужчин». Дело происходит в «Шанс-Бурге» — бывшей захудалой деревне Шанцевке, где после высылки казино из центра за сто первый километр возводят русский Лас-Вегас. Фима пытается самочинно помешать застройщикам при попустительстве продажного губернатора и равнодушной патриархии перенести куда-то на выселки часовню Ивана Воина, чтобы освободить место под казино. Фиму с позором выгоняют, а вслед за тем прикрывают всю лавочку. И тут-то бойскаут попадает к настоящим мужчинам — в «Православную сотню», которая не ждет позволения от властей предержащих, чтобы врезать хоругвью зарвавшимся крупье-переселенцам. Но закончится все относительно хорошо: Фима простит покаявшегося отца.
Как видно уже и из этого краткого пересказа, новый роман Гуцко вяло заигрывает с жанром русской антиутопии. Или утопии — это до самого конца как-то не очень понятно. То есть авторскую интенцию, как говорится, угадать несложно, но она не убеждает. Автор как будто слишком увлекся стилизацией и сам не заметил, как смысл пошел у нее на поводу. По этому поводу хочется вспомнить известную довлатовскую миниатюру: «— Толя, — зову я Наймана,— пойдемте в гости к Леве Друскину. — Не пойду, — говорит,— какой-то он советский. — То есть как это советский? Вы ошибаетесь! — Ну, антисоветский. Какая разница». Похоже, автора подвел, как это обычно и бывает, именно русский язык, которым Гуцко так хорошо умеет пользоваться. В традиционной утопии — она же чаще всего антиутопия — первостепенное значение имеют жизненные реалии и бытовые детали. В этом романе они не важны: речь не о строительстве нового мира, а о душевных метаниях нового Гриши Добросклонова:
«Дохнуло чистотой и силой. Православное дело впервые предстало перед ним во всем своем неоспоримом великолепии. Не искать, поскуливая, своего уголка — с куском мутного обывательского солнца, с куском обывательской правды, трусливой и затхлой, — а жить во всю ширь, чтобы место твое было — вся твоя страна, которая с твоей помощью наполнится солнцем настоящим, немеркнущим, и настоящей всепобеждающей правдой…»
Возможно, это личное — вой шакальих радиостанций мне как-то ближе и понятнее, чем убийственно серьезная риторика родных осин, чего уж там. Но отчего-то всегда так получается в нашей литературной традиции: умнейшему автору с образцовым чувством юмора стоит только помянуть «колокольчики мои, цветики степные», как за ними неизбежно следует шапка Мономаха, а отсюда уже буквально рукой подать до «турки и венгерца», причем «ковшей славянских стук», ясное дело, «немцам не по сердцу». Может, все дело опять-таки в родной природе? Или виной характерный строй речи, предписанный законами жанра? Например, обыкновение ставить прилагательное после существительного, а местоимение после глагола (так писывал Шихматов богомольный, так писывал и Сорокин, и вообще так принято) оказывает на автора гипнотизирующее воздействие — убаюканный его уютным покачиванием, он забывает, что хотел сказать. В интервью Захару Прилепину Денис Гуцко сказал в свое время, что его новый роман будет «о невозможности в России оставаться честным и жить жизнью сытого обывателя». «Домик в Армагеддоне» делает подобную заявку со всей возможной серьезностью, но вывод, к которому приходит читатель в конце книги, обескураживает и сводится к другой строчке из процитированного выше стихотворения А.К. Толстого: «Мы летим во весь опор // К цели неизвестной». А мы-то думали. Больше всего угнетает, что, судя по названию книги, ее автор и сам иронизирует на счет этого будущего источника замечательных диктантов для учеников средней школы. Как говорится, так вот куда октавы нас вели!
Денис Гуцко. Домик в Армагеддоне. М.: АСТ: Астрель, 2009
Другие материалы раздела:
Стихи вживую. Игорь Караулов, 17.04.2009
Григорий Дашевский: «Довлатов сегодня – это Адольфыч», 16.04.2009
Юрий Буйда. Не только Конан Дойл, Станислав Буркин, Ричард Йейтс, Александр Терехов и Том Стоун, 16.04.2009

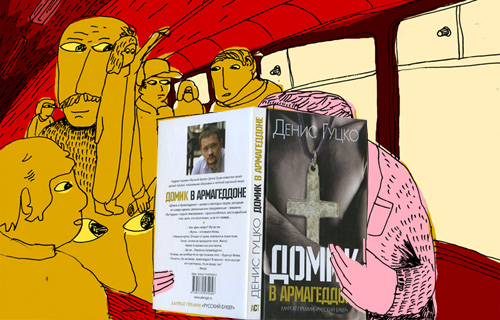
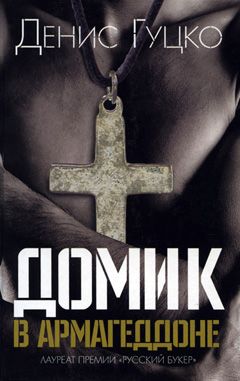
Так ведь рецензия как раз об этом - ирония и даже сарказм Бабицкой совершенно очевидны