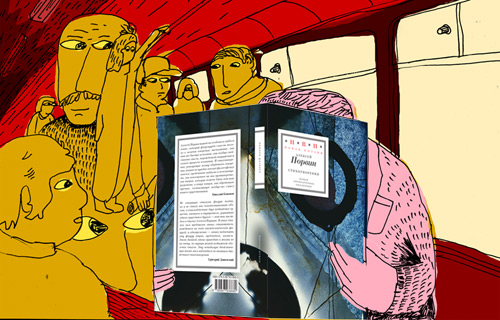Стихи Порвина с самого начала были чрезвычайно конкретны и вещны. Это ни в коем случае не иероглифы. Но что же?
Имена:
Алексей Порвин
© Тимофей Яржомбек
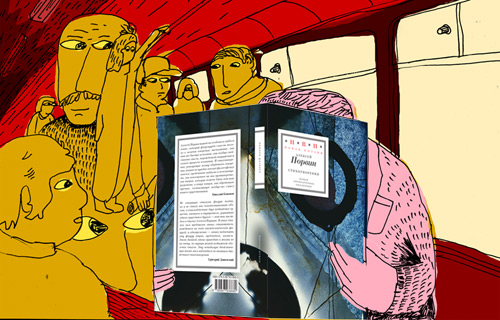
Полтора года назад мне пришлось уже сказать несколько слов о поэзии Алексея Порвина — в краткой рецензии на его первую книгу. Тогда это были, в сущности,
только слова приветствия новому поэту, самобытному и потенциально значительному. Разумеется, я уже тогда задумывался о том, как этот новый, очень быстро формирующийся мир устроен, но процесс понимания явно находился на начальной стадии. (Я могу лишь согласиться с Олегом Юрьевым, написавшим предисловие к книге: поэт постоянно находится в процессе создания своей поэтики, а прекращение этого процесса означает смерть поэтического организма и переход к существованию на процент; но, добавлю от себя, и читатель постоянно находится в процессе все нового перепонимания и переощущения чужих стихов; прекращение этого процесса означает равнодушие).

О поэте Порвине за его недолгую литературную жизнь успели сказать довольно много разного. Николаю Кононову, например, кажется, что «Порвин пишет на особенном зыбком языке, который фиксирует смыслы только в момент говорения; высказанные, они так же быстро исчезают, как вообще свойственно мысли, порожденной напряжением самого процесса осознания». Григорий Дашевский видит в них «отказ становиться, рождаться на свет квазичеловеческой фигурой; и одновременно — отказ подменять эту фигуру вещью, предметом, камнем». Для Юрьева существенна структурная риторичность лирического мира Порвина («Вопросы, ответы, побужения, просьбы, жестоуказания — базовые структурные элементы… этого сада риторических фигур») и его связь (именно через эту риторичность) с «пренатальным», доломоносовским периодом русской поэзии. Наконец, мне в свое время казалось, что стихи Порвина подобны формулам-иероглифам, передающим какие-то базовые соотношения мира, и что этим формулам предстоит постепенно наполниться «вещной плотью и музыкальным гулом».
Сейчас мне кажется, что меня подвела читательская инерция, заставившая проецировать на нового автора то, что я уже знаю об эволюции других, старших поэтов. Стихи Порвина с самого начала были чрезвычайно конкретны и вещны —
в своем роде. Это ни в коем случае не иероглифы. Что же это?
Вот для примера одно стихотворение из новой книги (большой по объему, полностью включающей в себя первую):
Когда проснешься, взгляни вокруг —
твое сердечное тук-тук-тук
опять свидетельствует о том,
что всё неправда, хоть стало сном:
бескостный дым, зазвучавший вниз,
на слух всесилен и слишком сиз;
оформлен плотью приземный слой
тоски не новой и волновой.
Вставай, частицы давя на свет.
На дряблость гари — подмоги нет:
тогда с востока прибудет кость,
сияя тем, что в тебе сбылось.
Но с этой косточкой лучевой
не сделать, матушка, ничего,
и хватке дыма не быть иной,
не стать безжалостно-костяной.
Читать текст полностью
Для того чтобы назвать дым «бескостным», нужно обладать известным предметным зрением, но, в общем, это под силу многим поэтам. Но «кость», прибывающая с востока, причем лучевая и сияющая (то есть, собственно, луч солнца), — это такое физически плотное, увесистое завершение кажущегося мимолетным образа, почти гротескное в этой плотности, какого у других поэтов я не припомню.
Если бы мне сейчас предложили вывести формулу поэтики Порвина, может быть, она звучала бы так: обращение к самому зыбкому, тонкому, трепетному слою ощущений — и способность увидеть и описать происходящее на этом уровне в физической конкретности, глазами какого-то безумного естествоиспытателя. Этот мир на самом деле тяжел, как тяжела муравью травинка; и если, скажем, «нагретый проблеск велосипедного звонка» в себя вбирает «подробности движенья вдаль» — это не развоплощение плотского, а материализация, конкретизация света и движения. Крепость причинно-следственных связей в каждом тексте делает поневоле и зрительный образ исключительно глубоко прописанным — в простом синтаксическом смысле:
…Мешкай знать о вкусе, август,
света, схваченного за
черенок, где перебежкой
оказалась стрекоза.
Налило, что хоть дыханье
как способность исключи,
словно и совсем не знали,
чем колеблемы лучи…
В свое время (года четыре назад), впервые прочитав стихи Порвина (еще не вполне зрелые), я был поражен одной особенностью его генезиса: тем, что показалось мне ориентацией на пастернаковскую традицию. Дело в том, что мне эта традиция представлялась выработанной (самим Пастернаком в основном) и в этом смысле тупиковой. Однако если практически все поэты, пытавшиеся двигаться по этому пути, брали у Пастернака три вещи: ассоциативность, интонацию и (тесно с этой интонацией связанную) языковую неиерархичность, то Порвин увидел, кажется, нечто иное: ветер, веткой пробующий, не время ль птицам петь. Тот самый глубоко прописанный образ на материале эфемерного ощущения, но у Порвина посаженный на жесткий логический каркас. Конечно, лирическая мысль его никуда не исчезает (см. один из приведенных выше отзывов) — она прочна, просто она не похожа на то, что принято считать поэтической мыслью во многих читательских кругах.
Кажется, кстати, что и лирические абстракции, от увлечения которыми мягко предостерегает Порвина Юрьев, могут во многих случаях значить не совсем то, что кажется. Если у ритора XVII—XVIII веков строчки «Вот устремляется решимость со дна, которым сад накрыт» означают олицетворение качества — некоторого героя, обладающего решимостью, то у ритора, который есть притом и физикус, это попытка (не всегда удачная) обозначить некую новооткрытую силу или субстанцию.
Все же: физикус или физик, о котором мы говорили выше? «Естественный мыслитель» в хармсовском смысле или ученый в академическом понимании? Если второе, естественно было бы ожидать «интеллигентского», естественнонаучного, объективизирующего языка, который Бродский научил говорить о метафизических глубинах (правда, это был такой же одноразовый лингвистический выход, как у Пастернака). Если первое — мы ждем остранения в обэриутском духе, ждем того, что Лидия Гинзбург назвала «галантерейным языком». Нет ни того ни другого. Язык Порвина не вступает ни в какие парадоксальные или конфликтные отношения с интеллигентским и народным: он слышит только сам себя. Порвин не ищет обороты, отвергнутые или невостребованные обиходом: он живет в них. Как жил (но совсем в иных тайных возможностях языка) Хлебников.
Слёзным захлёбом — за хлебом.
Кто бы ты ни — нас прозрачным шарóм породи;
в нас не тони.
Язык порвинских стихов — язык русского умственного и умствующего человека альтернативного пространства и времени. Архаические, на наш взгляд, элементы этого языка — ни в коем случае не результат стилизации. Просто у поэта иное лингвистическое настоящее, существующее без оглядки на общее. Но поневоле влияющее на общее будущее.
{-tsr-}Вот какие новые соображения о поэзии и поэтике Алексея Порвина возникли у меня по прочтении его большой книги. Чтобы высказать их, я и взялся в данном случае за перо, то есть сел за клавиатуру. Что же до похвал и приветствий, то их на сей раз не будет. Потому, в частности, что Порвин уже не дебютант, а зрелый мастер — думаю, знающий себе цену и нуждающийся не в поощрении, а в понимании равных.
Впрочем, от одной похвалы не удержаться: рецензируемую ныне книгу я буду еще не раз и не два с интересом и волнением перечитывать, каждый раз, надеюсь, находя в ней что-то новое.
Алексей Порвин. Стихотворения. — М.: Новое литературное обозрение, 2011