В отличие от многих других Гаврилов готов непосредственно предъявить читателю заведомую неполноту изображаемого мира
Имена:
Анатолий Гаврилов
© Тимофей Яржомбек
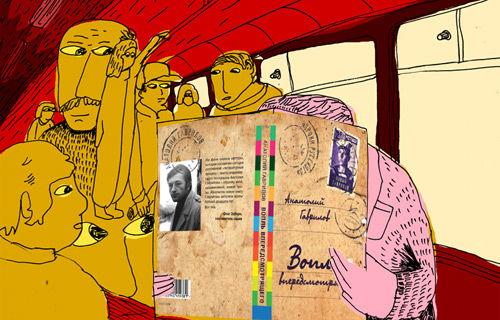
Разговор о писателе Гаврилове неизбежно связан с обсуждением его литературной маргинальности, особой окраинности (но не провинциальности) художественного сознания. Действительно, все эти
характеристики неизбежны: слишком отдельное положение занимает писатель в текущей словесности, причем эта отдельность настолько бросается в глаза, что толстожурнальной критике даже потребовалось
вспомнить о несколько вульгарном противопоставлении коммерческого мейнстрима и экспериментальной литературы, чтобы как-то оправдать долгое существование Гаврилова вне постсоветских литературных институций. Самое интересное в этом, конечно, то, что проза Гаврилова дошла до более-менее массового читателя в ореоле возвращенной классики, с которой уже нельзя не считаться, но как именно считаться – пока не вполне понятно.
Тем не менее вышедшая примерно год назад «Берлинская флейта» позволила более взвешенно оценить место писателя в современном литературном космосе: так, в качестве непосредственного предшественника Гаврилова общественность согласилась видеть Леонида Добычина (времен «Города Эн»), а в качестве продолжателей – таких писателей, как
Дмитрий Данилов и Олег Зоберн (хотя, конечно, не только их). Однако в прозе Гаврилова все равно остается некая загадка, не дающая успокоиться и остановиться на уровне литературных генеалогий или общих построений, которые, отдадим им должное, часто оказываются достаточны, чтобы воспринять тот или иной феномен.

Неустранимый остаток, превращающий прозу Гаврилова в своего рода «роман без ключа», налицо и в «Вопле впередсмотрящего» — книге и ее заглавной повести. Кроме этой пространной повести в издание включено несколько рассказов, в которых не видно, надо сказать, разнообразия манер и методов, характерных для рассказов из предыдущей книги, и которые потому воспринимаются как своего рода единый текст. Конечно, хочется увидеть в рассказах следы некоторого изменения манеры, но едва ли такое в данном случае возможно. Перед нами, можно сказать, хрестоматийный Гаврилов, и без набившего оскомину упоминания «телеграфного стиля» здесь обойтись сложно: слишком очевидно прерывистое дыхание этой прозы, кстати говоря, на сей раз подчеркнутое типографским способом — интервалы между абзацами увеличены, и страницы книги оттого, кажется, содержат слишком много белого пространства, тех самых пустот, что так характерны для разворачивающейся на них коммуникативной драмы.
Здесь может пойти в ход почти любая случайная цитата: «Впервые летел самолетом в седьмом классе. Был в гостях у тетушки в Донецке, и она взяла мне билет на самолет, пассажиров было только трое, и все 45 минут полета мужчина и женщина безотрывно целовались, а я старательно смотрел в иллюминатор». Это, конечно, исчерпывающая характеристика героя Гаврилова – коммуникация не то чтобы невозможна (
как пишет, в частности, Игорь Гулин), но она совершается где-то на соседних сиденьях, вполне успешно, но не затрагивая героя, его друзей и знакомых (фрагментирование мира при помощи приятельских отношений тоже характерная черта
modus vivendi героев Гаврилова).
Читать текст полностью
Или возьмем другую фразу: «На днях принесли телеграмму, текст телеграммы: “Пора кончать”. Принес телеграмму пожилой почтальон, в котором я узнал самого себя, то есть сам себе принес телеграмму». Ключ от этой фразы также, кажется, потерян, но и любая ее «расшифровка» по существу бессмысленна: герои прозы Гаврилова живут в мире не вполне проявленных сущностей, и навязывание им дополнительного существования слишком противоречит не только авторской воле, но и здравому смыслу. Окружающее гавриловского человека пространство слишком разрежено, и, чтобы как-то компенсировать эту разреженность, писателю и его героям приходится заново давать имена предметам, людям, связывающим их отношениям, мирясь с тем, что имена эти совершенно ничего не означают: «Хабанера — от La Habana (Гавана). Известна с конца XVIII века. Использовалась Ж. Бизе, К. Дебюсси, М. Равелем». Внутри этих текстов разворачивается своего рода драма означивания: контуры предмета ожидают полноценного, а не пунктирного существования, хотят значить и означать, но эта полноценность оказывается невозможной. И на этом примере видно, что взял от Гаврилова тот же Данилов: невозможность довести означивание до конца превратилась у последнего в принципиальный отказ от означивания — не нужно вглядываться в предмет, достаточно его назвать. У Гаврилова же происходит иное: означивание готовится, ожидается, но никогда не происходит, как бы подчеркивая существование героя в особом призрачном мире, для которого реалии поселка Шлаковый лишь очень приблизительно задают правила игры.
Интересно, что в завершающей книгу небольшой пьесе «Играем Гоголя» подобная драма означивания выливается непосредственно в сценическое действо. Эта пьеса – почти автокомментарий: на одной сцене здесь сходятся Гоголь (как герой «Переписки с друзьями»), Чичиков, Хлестаков и Поприщин, которые осознают себя ровно в той мере, в какой им отпущено школьным литературоведением. Они отвечают на вопросы некоторой непроизносимой анкеты, и в их ответах проблема невозможности означивания выступает очень остро. Например, Поприщину приходится ответить: «Никого у меня нет. У меня даже имени нет. Ни имени, ни отчества», — и эта недовоплощенность проходит через всё действие и, как мы понимаем, оказывается свойственна вовсе не только безумному титулярному советнику. Причудливое анкетирование переходит в светскую болтовню между литературными героями и сочинителем, но голос Поприщина все равно звучит диссонансом, постоянно напоминая о том, чего стоят фантастические прожекты Чичикова или Хлестакова (даже пересказывая этот сюжет, трудно не чувствовать себя на школьной скамье, что, видимо, вполне соответствует авторской воле). Не выдержав, Поприщин обвиняет то ли умирающего, то ли засыпающего Гоголя: «Вы меня сделали сумасшедшим! Вы меня сделали испанским королем Фердинандом Восьмым! Меня били палками по голове! Мне выбрили голову и капали на нее холодную воду! Звал я матушку мою спасти меня, но она не услышала! Вы не удосужились сказать, кто она, где она!» — и это важное обвинение: писатель неизбежно обрекает своих героев на недовоплощенность, и, в сущности, (по Гаврилову) он не способен что-либо воплотить до конца. Правда, в отличие от многих других Гаврилов готов непосредственно предъявить читателю заведомую неполноту изображаемого мира.
Это ощущение неполноты преследует читателя и в тех рассказах и повестях Гаврилова, которые в куда большей степени подчинены формальной стилистической задаче. К таким текстам относится и необычно длинный для Гаврилова знаменитый рассказ «В преддверии новой жизни», и неуловимо на него похожая новая повесть «Вопль впередсмотрящего». Герой этой повести, как и следовало ожидать, существует в каком-то мерцающем и призрачном мире. Он так же, как и многие обитатели поселка Шлаковый, уловлен циклической однообразностью быта: мы понимаем, что живет он с родителями, играет в карты и проигрывает (некоему Киргизу), выращивает виноград «Изабелла». Но есть и странности: вместе с другом Мишей герой готовится к кругосветному путешествию (естественно, не имея на это средств), почему-то постоянно бормочет какие-то отрывки из школьных учебников (особенно по столярному делу), но в школе как будто не учится, постоянно встречает на улице (или в окружающих поселок кукурузных полях) некого Б.П. в белом плаще, которого в городе вроде бы никто не знает, но который оказывается чуть ли не единственным выжившим из команды погибшего судна. Все бы ничего, но только герой и сам не может определиться, где он, а где Б.П. (даже некоторые случайные люди принимают его за Б.П., а иногда и он сам обнаруживает себя прогуливающимся в белом плаще среди кукурузных полей). Собственно, путаница такого рода преследует и других связанных с ним героев: друг Миша тоже готов нарядиться Б.П. или еще кем-то, а девушки Зина и Нина, за которыми герой пытается приударить, также на поверку оказываются то ли одним существом, то ли и вовсе мимолетным миражем. Все перемещения и действия оказываются соединены в ленту Мёбиуса: словно вещам настолько не хватает своего собственного значения, что они готовы слипнуться друг с другом, образовать пусть неустойчивые, но более жизнеспособные конгломераты, и здесь, конечно, можно видеть намек на то, что аутичное бормотание героя скрывает какую-то психическую дисфункцию, вызывающую в памяти образы «Школы для дураков» (при полярном подходе авторов к организации материала).
{-tsr-}Кажется, и эта своеобразная отсылка, и свойственная всей прозе Гаврилова специфическая недовоплощенность по существу полемичны, и это полемика, прежде всего, с орнаментальной прозой (действительно магистральной для русского XX века). Тем интереснее пьеса «Играем Гоголя», написанная с нескрываемой иронией по отношению к родоначальнику этой традиции, которому, несмотря на всю барочную пышность, кажется, так и не удалось достигнуть полной воплощенности изображаемого (во всяком случае, если понимать пьесу Гаврилова так, как понимает ее автор этих строк). Предмет – в самом широком смысле – в орнаментальной прозе оказывается как бы переполнен лишними сущностями, он вот-вот готов лопнуть от их переизбытка, но, по Гаврилову, эта переполненность, в сущности, бессмысленна: все равно краски потускнеют, а слова забудутся. Но сам вопрос, возможно ли совершенное воплощение, останется, и этот вопрос проза Гаврилова будет задавать своим читателям снова и снова.
Александр Гаврилов. Вопль впередсмотрящего. – М.:, Колибри, 2011

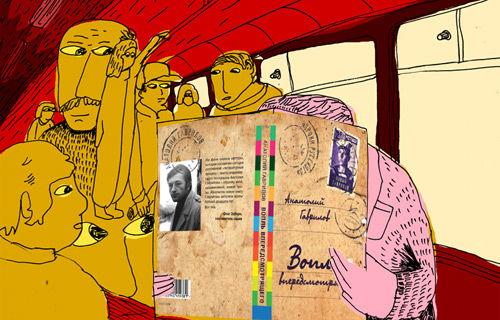

Даже удивительно для Опенспейса, вполне так самодеятельного журнала.
Позвольте полюбопытствовать, а чего это вы Иванову "отпустили"? за Гальегу то?)))
А мы помирились. Она мне премию даёт (миллион руб, чтоб я отстала) и печатать будет!!!