Вся его послелагерная биография – череда взлетов, перемежающихся крушениями и растерянностью, но каждый следующий взлет выше предшествующего.
Всю биографию Шаламова следует рассматривать как биографию зэка или в лучшем случае ссыльнопоселенца, лишенного настоящего выбора и местожительства, и работы
В истории русской литературы послесталинской эпохи, целиком доступной уже историко-литературному описанию, выделяются три биографических сюжета, относящиеся к авторам, которые — в традиционном российском понимании — являются ее «великими писателями». Это, разумеется, Солженицын, Бродский и Шаламов. Если два из них можно кратко описать как «романы литературного триумфа»,Читать!
Нынешнее мировое признание Шаламова никак не снимает острого чувства несправедливости его писательской и личной судьбы. Очевидно, именно это чувство двигало Дмитрием Ничем в его биографическом повествовании о послелагерной жизни Шаламова, фрагмент которого публикует OPENSPACE.RU. Эта внимательная, информативная и грустная книга открыто пристрастна, эмоциональна и полемична. Весь текст Дмитрия Нича пытается ответить на один из главных русских вопросов: кто виноват? Скажу сразу: с ответом и со многими оценками автора я не согласен. Здесь не место подробно аргументировать свою позицию; в двух словах: в отличие от Нича я склонен видеть причину шаламовской катастрофы не снаружи, не среди посторонних писателю сил и обстоятельств, но в нем самом, в складе и особенностях его личности и новаторской поэтики. Однако самая постановка автором этого вопроса применительно к шаламовской литературной биографии — в сочетании с обширным фактическим материалом и убедительными реконструкциями — кажется мне чрезвычайно продуктивной. Я надеюсь, что в обозримом будущем книга Дмитрия Нича увидит свет. Сейчас текст полностью публикуется автором в блоге «Варлам Шаламов и концентрационный мир».
ГЛЕБ МОРЕВ
1961
В 1961 году в издательстве «Советский писатель» выходит небольшой, 53 стихотворения, сборник «Огниво», тираж которого — 2000 экземпляров — биограф Солженицына Людмила Сараскина называет «крошечным». Действительно крошечный по тем временам. Борис Слуцкий поверхностно, по мнению автора, рецензирует его в «Литературной газете» — «в тоне благожелательности, без акцента на лагерь, на прошлое». Другое не замеченное Слуцким заметит бывший норильчанин Сергей Снегов, к сожалению, только в частном письме Шаламову: «…конечно, Тютчев — Тютчев, а Шаламов — Шаламов... но здесь вы пересекаетесь, тут в философской глубине природоощущения вы — родня и, повторяю, единственная в истории нашей литературы такая близкая родня… у Вас всегда “природа природствующая”, нераздельная от человека». Не избалованный читательскими откликами Шаламов запомнит эту оценку. Книжкой он недоволен, это редакторское, а не его достижение.
Один из авторских экземпляров он дарит Илье Эренбургу с надписью: «Спасибо Вам за Ваши теплые слова о Мандельштаме» — и подписывается «В. Шаламов» — вероятно, это имя уже известно Эренбургу от его литературного секретаря Натальи Столяровой, женщины, сыгравшей близкую к роковой роль в судьбе двух поэтов — парижского и колымского. Отношениям Шаламова с Эренбургом стоит уделить в будущем больше места, пока же благодарность Шаламова следует отнести к главке о Мандельштаме в воспоминаниях Эренбурга — пудовом пособии по ликвидации культурной безграмотности второго поколения советских людей, печатавшемся тогда из номера в номер «Нового мира». Как ни странно, эта сервильная, лживая и глупая книга действительно давала какие-то первоначальные сведения о людях, событиях и книгах, память о которых в послесталинском СССР была почти полностью истреблена либо извращена до неузнаваемости.
В ходе подготовки сборника к печати, ради чего Шаламов «ходит в издательство, как на работу, и вынюхивает в корректуре каждую буковку» (Майя Муравник), он знакомится с бессменным редактором всех пяти его поэтических книжек, серийным литературным убийцей и политическим надзирателем Виктором Фогельсоном, который спустя 11 лет предложит ему написать открытое письмо в опровержение слухов о сотрудничестве с эмигрантскими журналами. Во всех других отношениях этот Фогельсон — безликое, казенное воплощение человеческого ничто, почему-то приглашенное Людмилой Зайвой и Юлием Шрейдером на первый посвященный Шаламову публичный вечер в 1987 году и делившееся там воспоминаниями о плодотворной совместной работе с полузабытым поэтом (Шаламов в духе статейки о нем в Краткой литературной энциклопедии подавался тогда советской аудитории исключительно как поэт).
Сотрудница издательства Муравник описывает Шаламова как глубокого старика с костлявым, иссеченным морщинами лицом, не снимающего ватного пальто и шапки-ушанки даже в разгар июньской жары. То же самое рассказывает Владимир Лакшин: «Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы», дополняя портрет рутинными «лицом с резкими морщинами у щек и на подбородке» и «глубоко запавшими глазами». О пальто и шапке, напяленных в разгар летней жары, будет вспоминать и Иван Исаев, собиравший Шаламова в дом престарелых почти через двадцать лет, — видимо, это постоянная примета промороженного и так до конца и не отогревшегося старого колымчанина, кроме того, свидетельство общего отношения Шаламова к быту, мало соответствующее принятому в благополучном московском литературном свете. Так же будет шокировать своими обносками приличное общество Солженицын, но у Солженицына это спектакль, тогда как у Шаламова — органика повседневного поведения.
Увлечение Шаламова шахматами, которое он разделяет с советской интеллигенцией, проявляется в интересе к матчам на звание чемпиона мира: «Таль — не Алехин. Успехи Таля — успехи скорее психологического, чем шахматного порядка». Позже он предскажет победу Карпова в матче с Корчным.
В будущий День космонавтики он со всеми следит за полетом Гагарина, отмечая, что репортаж, по обыкновению, ведется задним числом, однако непритворно захвачен редким зрелищем и всеобщим коммунальным энтузиазмом: «Грамотный солдат. Очень уверенный, очень. Держится вовсе независимо, без тени волнения. Поздравлял весь мир, кроме Мао Цзедуна. Это, конечно, самое сильное, самое незабываемое». Более сильное и более незабываемое, чем июнь сорок первого и май сорок пятого, которых обитатели «планеты Колыма» почти не заметили. Шаламов еще надеется, что покоренный космос он наблюдает не из концентрационной вселенной, а из какого-то другого, более жилого и нормального места. Жизнь постепенно развеет эту иллюзию.
Шаламов полон поэзии и иллюзий.
«Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитило».
Зимой Шаламов узнает адрес одного из своих колымских друзей, бывшего врача-заключенного Пантюхова, и пишет ему в Павлодар.
В 1946 году Андрей Пантюхов спасает Шаламова, избавившегося к тому времени от страшной буквы Т (троцкист) в «литере» — аббревиатуре, указывающей категорию преступника, в данном случае самую страшную, годную для использования только на тяжелых физических работах — сняв его с этапа и направив из больницы на курсы фельдшеров (Шаламов рассказывает об этих курсах в нескольких очерках, как в КР, так и в воспоминаниях [О Колыме]). Пантюхов работает в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины в Казахстане, стал уже «аборигеном» Павлодара, где до реабилитации отбывал ссылку, и, кажется, совладал с колымским туберкулезом, отнявшим у него одно легкое, но освободившим от ледяных объятий Дальстроя. Теперь, бывая в Москве, он навещает Шаламова — «…статный мужчина, темноволосый, с густой шевелюрой, в очках с позолоченной оправой, очень моложавый: когда я его впервые увидел, ему было за 60, а выглядел он не старше 50» (Виктор Чигорин). Его политические взгляды таковы: «...советскую власть доктор Пантюхов ненавидел, насколько мог ненавидеть».
«Колымские рассказы» ему не понравились, свидетельствует Шаламов, второй книги не дочитал: «Слишком страшно».
В ответном письме Пантюхов пишет: «Я все время следил за журналами и искал все вашу фамилию и, откровенно говоря, потерял уже надежду узнать что-либо о Вас». Точно так же ничего не знает и еще долго не узнает о Шаламове другой его товарищ по лагерю, инженер Георгий Демидов, задумывающий в Ухте свой собственный свод «колымских рассказов». Напомню, что к 1961 году Шаламовым написано уже свыше полусотни рассказов и очерков, каждый второй из которых мог бы стать журнальной сенсацией, некоторые из них — образцы подлинной «новой прозы», того «лучшего за несколько десятков лет» в русской литературе, каким Шаламов сгоряча назовет солженицынского «Ивана Денисовича». Из них только «Стланик» усилиями Федота Сучкова будет позже напечатан в журнале «Сельская молодежь», но, вырванный из контекста, пройдет незамеченным. Это единственный текст КР, увидевший свет в Советском Союзе при жизни Шаламова.
К сожалению, никаких дополнительных сведений о докторе Пантюхове интернет не дает. В воспоминаниях Лесняка есть обмолвка о том, что он скончался там же, в Павлодаре, в ноябре 1983 года и что в шестидесятых годах они обменялись тревожными письмами по поводу «бросающихся в глаза странностей» Шаламова, в контексте воспоминаний это должно расшифровываться как отчужденность от старых друзей, однако для домыслов здесь слишком зыбкая почва.
Во второй половине года Шаламов предлагает своему работодателю «Новому миру» стихи и прозу. Одновременно Солженицын передает через Копелевых тому же журналу облегченный от непроходимых через цензуру кусков рассказ «Щ-854». Рукопись, переименованная в «Один день Ивана Денисовича», усилиями Твардовского и самого Хрущева будет медленно двигаться к публикации, рождая многочисленные слухи о появлении в русской литературе «нового Льва Толстого». Мнение Шаламова о Толстом известно: «…у Толстого никаких символов, никаких вторых планов, никаких подтекстов — нет». Ничего, что ценит в художественном тексте Шаламов.
«Оттепель» достигает пика. В Москве проходит XXII съезд партии, на стенограммы которого Шаламов сошлется в «Письме старому другу», написанному для «Белой книги о процессе Синявского и Даниэля» (1966), безжалостно резюмировав: «двадцать лет открытых убийств» — формула недавней советской истории обыгрывает название повести Юлия Даниэля «День открытых убийств», инкриминировавшейся тому на суде.
По сообщению Бориса Лесняка, на рубеже 1960—1961 годов он встречает у Шаламова Федота Сучкова, просившего у хозяина посредничества в его планах вылепить скульптурный портрет Солженицына. «— Знаешь, кто это был? — сказал Варлам, закрывая за ним дверь. — Скульптор, Федот Сучков… приехал просить меня о рекомендации». Лесняк ошибается — с Солженицыным Шаламов знакомится только в конце 1961-го, а с Сучковым — в 1962 году в журнале «Сельская молодежь», куда заглянул в надежде пристроить стихи.
В эти годы Лесняк снабжает Шаламова «справочной литературой, архивными документами, сведениями об интересующих его людях» и даже безуспешно пытается устроить ему рабочий кабинет («стол и стул») в своей московской кооперативной квартире, которая несколько лет так и простоит пустой, поскольку остальные пайщики жилищного кооператива — в духе обычного советского человеконенавистничества — категорически против того, чтобы «сдавать, подселять и просто пускать в пустующие квартиры кого-либо в отсутствие хозяев». К воспоминаниям Лесняка нужно относиться осторожно — как и другие мемуаристы, он очень небрежен в датах, смешивает в одном абзаце события нескольких лет, а нередко, как кажется, намеренно датирует их более поздним сроком, чтобы создать впечатление более продолжительного и непрерывного общения с Шаламовым, чем было на самом деле.
В связи с выставкой Ренато Гуттузо в Эрмитаже Шаламов упоминает в записных книжках импрессионистов и Пикассо с его «символикой идеограмм, искусством фрески» как преодолением и смещением границ реализма, с которым у Шаламова собственные серьезные счеты.
1962
В январе он отсылает завотделом журнала «Знамя» Людмиле Скорино свою «писательскую биографию». Скорино — сверхживучая редакционная вошь, благополучно пересидевшая в журнале все десять постигших страну египетских казней. По словам Натальи Ивановой, к Шаламову она питает некие «нежные чувства», но это ничуть не облегчит ему сотрудничества со «Знаменем», возглавляемым отпетым мерзавцем и служащим тайной полиции Вадимом Кожевниковым. Именно Кожевников отнес в ГБ рукопись гроссмановской «Жизни и судьбы», на которую высшие советские инстанции наложили бессрочный арест. Это письмо Скорино Шаламов переработает в 1964 году в очерк «Несколько моих жизней». КР в письме даже не упомянуты, сказано о большом количестве рассказов и очерков, написанных «на северном материале». В «Новом мире» они лежат чуть ли не со времен редакторства Константина Симонова, кажется, оценившего их по достоинству (Майя Муравник), и пролежат не один год, пока через заместителя Твардовского Игоря Саца, когда-то писавшего с Платоновым статьи в «Литературный критик» под общим псевдонимом «Человеков», не попадут на стол к этому версифицирующему аппаратчику и не удостоятся такого отзыва: «Это какие-то очерки, мы их печатать не будем» (Сергей Григорьянц). Сиротинская в интервью «Голосу Америки» заявляет, что «хотя рассказы лежали в отделах, Твардовскому их не показывали. Видимо, считали их «непроходимыми». Свидетельство Григорьянца это опровергает. Твардовский — номенклатурный литературный чинуша и раб массовых вкусов либеральной интеллигенции, главного адресата журнала. Стихов Ахматовой он тоже не понимает, но «это имя», а у Шаламова никакого имени нет. Имя либеральный Твардовский делает Солженицыну, затхлая эстетика которого ему близка и понятна, а разработка лагерной темы отвечает линии партии на разоблачение преступлений «периода культа личности», но без привлечения таких категорий, как «школа растления» и «абсолютное зло». При жизни Шаламова «Новый мир» не опубликует ни одной его строчки, хотя заместитель Твардовского прогрессист Владимир Лакшин почтит Шаламова присутствием на его похоронах, полчаса простояв у гроба, опираясь на палку. Интересно, что в предисловии к «перестроечной» публикации «Колымских рассказов» в журнале «Знамя» он найдет слова, по смыслу в точности повторяющие слова другого ценителя шаламовской прозы, Романа Гуля. Гуль печатал КР «без всякой помпы», назвав их, однако, единственным большим открытием «Нового журнала». Не печатавший КР новомирский Лакшин говорит: «Шаламов вошел в наше общественное и литературное сознание незаметно, но прочно, без шумной волны сенсации». Те же, как говорится, структуры сознания. Тупица находит в Шаламове «призвание Нестора-летописца колымского народа», не замечая, что КР несколько отличаются от «Архипелага ГУЛаг», но полагая, что это послужит хорошей рекомендацией для читателя. По сообщению Валерия Есипова, встречи с Твардовским Шаламов не удостоился. Шаламов — внутренний рецензент, ничто в глазах главного редактора, в личности которого, пишет Есипов, «доминировала… ценностная компонента советской культуры, включавшая… прежде всего строгую внутреннюю дисциплину, основанную на соблюдении незыблемых иерархических табу в общественном и личном поведении». «Все знали, что “А.Т.”, как называли его в редакции, по пустякам беспокоить нельзя: в кабинет допускались только члены редколлегии и особо близкие люди из писательского круга». Стихи и проза Шаламова — пустяк, ради которого барина тревожить не будут. «В общем, дальше людской [Шаламова] не пускали» (Сергей Неклюдов). Его последующие ненависть и презрение к этому тугомясому долдону вполне заслуженны.
В начале 1962 года Шаламов знакомится и обменивается письмами с Сергеем Снеговым (Штейном). Впоследствии, из соображений чисто житейских, физик Снегов станет известным советским фантастом, «романистом» на лагерном жаргоне, а в начале девяностых успеет напечатать две книжки лагерных рассказов, предлагавшихся журналу «Знамя» как раз в период их знакомства с Шаламовым. Рассказы пролежат в редакции до выхода повести Солженицына и будут отвергнуты, поскольку тема исчерпана, однако весной 1962-го об этой повести ходят лишь слухи и можно позволить себе надежды.
Весной сестра Галина Сорохтина извещает Шаламова о смерти матери его зятя и мельком сообщает о настроениях и здоровье Елены (в замужестве Янушевской): «Не знаю, писала ли тебе сама Лена, но она очень переживает отчуждение, которое поняла, и хочет тебя видеть. Девочка она умная, работает инженером, и семья, здоровье тоже не особенно, после той болезни». Что за болезнь, не уточняется, вероятно, Шаламов о ней знает, и, вероятно, именно эта болезнь заставит молодую пару усыновить двух малышей, кровным родством с Шаламовым уже не связанных. Вклад Шаламова в трагедию русского генофонда в том, что его линия оказалась выморочной. Вымаривание нации посредством лишения лучших ее представителей возможности закрепиться в потомстве — еще одно, наравне с золотыми забоями Колымы, эффективное средство политики геноцида, о котором Шаламов говорит прямо — в письмах и дневниках он использует именно это слово, хотя и применительно к сталинскому периоду — «абсолютное зло» этой эпохи навязало поколению Шаламова свою патологическую меру вещей, из которой исходит Надежда Мандельштам, желая косноязычному ничтожеству Брежневу править подольше, поскольку он «первый не кровавый».
В мае Шаламов выступает в телевизионной программе с чтением стихов. «Я рад, конечно, возможности выступить — от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись», — очевидный самообман: какие могут быть «мертвые Колымы и Воркуты» на стерильном государственном телевидении. Ему любопытен процесс функционирования нового СМИ. «…Дело требует большой собранности, сосредоточенности и напоминает больше съемку игрового кинофильма, чем фильма хроникального, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. На крошечной площадке внутри огромной коробки телестудии, заставленной аппаратами, увешанной кабелями, сигналами, работает человек пятнадцать — режиссеры, операторы, нажиматели звонков и прочие лица, деловое содержание которых определить сразу нельзя. Все это висит в метре от твоего лица, освещенного ярким светом, словом, ничего домашнего в телестудии нет», — делится он впечатлениями с рязанским другом Яковом Гродзенским. «Яшка» — один из немногих, в ком нет «этой проклятой хитрожопости», умения устраиваться за счет других и обделывать делишки, декорируя шкурничество лексикой двуличного «прогрессивного человечества». «Яшку» Шаламов любит. В письме он упоминает свое предыдущее выступление в Доме писателей, других сведений о котором я не нашел, а Сергей Неклюдов рассказывает еще об одном поэтическом вечере в декабре того же года в «коммунистической аудитории» старого здания МГУ, прошедшем для Шаламова неудачно, если не унизительно — Шаламов не смотрится в рамках официальной программы, любые официальные советские рамки — это тот же род цензуры, что обезображивает его журнальные подборки стихов и поэтические сборники. Шаламов Москвы двадцатых годов и не пошел бы на вечер, на котором запрещено касаться любой животрепещущей темы, особенно лагерной. На знаменитом вечере, посвященном Мандельштаму, этих официальных рамок не будет, и Шаламов без труда прикует внимание зала. Неклюдов истолковывает неудачу Шаламова по-советски: поэтически неразвитая молодежь падка на жареное, а Шаламов предлагает ей классический метр. Нормальная поэтическая молодежь и должна устремляться на запах жареного. Если бы Шаламов вместо разрешенного классического метра прочел уже написанный «Шерри-бренди», о вечере говорила бы вся Москва.
Но заговорит она вскоре о Солженицыне. Солженицын всегда опережает Шаламова и успевает завалить прилавки своим товаром, эта авантюристическая натура умеет создавать обстоятельства и использовать их потенциал до конца. Сама процедура движения повести к печатному станку разогревает ожидания до предела. Когда вещь наконец выходит, Шаламов, по его признанию, не спит две ночи, поглощенный чтением. С автором он уже сталкивался днями в редакции «Нового мира» и взволнованно размышлял, будет ли повесть ледоколом для зажатой во льдах «оттепели» лагерной правды или только крайним положением маятника, который теперь качнется обратно. Не знаю, кому из двоих тут изменило воображение. На ледокол повесть совсем не похожа. Ледокол — это мощный, почти военный корабль, за которым следует флотилия мирных гражданских судов. Тут за повестью должны были следовать «Колымские рассказы», и сюда намного лучше подошло бы сравнение «Ивана Денисовича» с травкой, которая расширяет трещину в асфальте, чтобы там могло угнездиться дерево, взламывающее и крошащее этот асфальт. В асфальтовой пустыне советских толстых журналов «Колымским рассказам» приткнуться покамест некуда. Но оба, и Шаламов, и Солженицын, в то время естественные союзники, надеются на лучшее — Шаламов в меньшей степени, и это понятно, поскольку он не участник, а наблюдатель — позиция вынужденного бездействия должна склонять к скептицизму. Совершенно иначе Шаламов будет чувствовать после вечера, посвященного Мандельштаму, где вопреки регламенту возьмет инициативу в свои руки: «Мой час придет!» (Солженицын)
По прочтении повести Шаламов посылает Солженицыну восторженное письмо. Он анализирует стилистику текста и его содержательную сторону, поверяя ее опытом Колымы, где многое из того, что описано в повести, невозможно и делает солженицынский лагерь «курортом». Эта критика не имеет цели обидеть, но вносит ясность: настоящий сталинский лагерь уничтожения, Ижма, спрятан в «Иване Денисовиче» за лагерем без вшей, без блатарей, без бурок из старой ветоши вместо валенок, за лагерем, где махорку отмеряют стаканами, где после работы «не посылают за пять километров за дровами», где «хлеб оставляют в матрасе, да еще набитом!», где, наконец, целым и невредимым бегает знаменитый кот, судьба которого в настоящем таежном лагере — угодить в котел. Шаламов рассказывает, что такое золотой сезон Колымы 38-го года, к концу которого в бригаде «оставались только бригадир и дневальный», что такое «большая пайка», которая убивает, особенно таких крупных, долговязых, как Шаламов или прибалты (хорошие в лагере Солженицына лишь потому, что еще не оголодали), кто такие бригадиры и блатари, — вообще, что есть сталинский лагерь уничтожения без оглядки на политику десталинизации, проводимую сталинистами, и гуманистическую традицию русской литературы, кругозор которой ограничен «Мертвым домом» Достоевского и чеховским Сахалином. Суть подспудных претензий Шаламова можно свести к такой формулировке: лагерь Солженицына не повергает человека в условия, где с неизбежностью вылезли бы те закономерности поведения, которые уравнивают его с животным и ставят перед новой правдой о человечности. Он не открывает истины о человеке, ограничиваясь традиционной литературной задачей, хотя делает это хорошо, признает Шаламов. Суммируя впечатление, он сравнивает повесть со стихами и называет «откровением для читателя». В постскриптуме он клянется сказать свою правду до конца — под своей правдой он всегда имеет в виду не внешнюю, анкетную, сторону своего впечатляющего колымского опыта, а правду о человечности в условиях казавшихся невозможными испытаний, — и значительно преувеличивает объемы написанного: тысяча стихотворений, сотня рассказов. На самом деле к 1963 году написано около шестидесяти текстов КР и восемь очерков преступного мира, колымский эпос, этот мегалитический архитектурный ансамбль, парящий в потустороннем северном небе, еще далек от завершения. Точно так же преувеличит он, когда, комментируя в разговоре с Солженицыным внутреннюю рецензию Дремова, буркнет, что КР создавались за десять лет до «Ивана Денисовича» — в 1951 году Шаламов, живя на приисковом медпункте в самом сердце Дальстроя, не мог создавать никаких КР, разве что замышляя самоубийство. Это вспышки зарождающейся ревности к удачливому сопернику, которая вот-вот начнет сопровождаться пониманием, кто перед ним, и переходить в отчуждение и презрение.
Несколько трезвых отзывов о повести Солженицына его современников.
Поэт Давид Самойлов считает, что «высшую точку хрущевизма могло бы обозначить и другое литературное произведение, кроме «Ивана Денисовича», например рассказы Шаламова. Но до этого высший гребень волны не дошел. Нужно было произведение менее правдивое, с чертами конформизма и вуалирования, с советским положительным героем. Как раз таким и оказался «Иван Денисович».
Куда резче и без оглядки на диктат общего места отзывается интеллектуал и лагерный старожил Юрий Домбровский, вообще считающий «первым в лагерной литературе» Шаламова, себя — вторым, а Солженицына — только третьим. «Иван Денисович — шестерка, сукин сын, “каменщик, каменщик в фартуке белом”, потенциальный охранник и никакого восхваления не достоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы (рассуждающие о «Броненосце “Потемкине”»), а положительными — гнуснейшие лагерные суки... Уж одна расстановка сил, света и теней говорит о том, кем автор был в лагере». Чрезвычайно редкое и независимое для того растленного времени и среды суждение.
Сам Шаламов, свободный от конформизма только за рабочим столом, скорее полностью солидаризуется с духом времени. «Сейчас Солженицын показывает нашим “писателям”, что такое писательский долг,
Читать!
____________________
* Используя mutatis mutandis давнее определение А.И. Рейтблата.
{-page-}
Летом Шаламов успевает познакомиться с Львом Копелевым и Раисой Орловой, судя по названию солженицынской повести в цитате из мемуаров интересующимися им уже не один год: «…рукопись “Щ-854” была не единственной нашей заботой. Были еще... рассказы Варлама Шаламова, другие рукописи, которые мы старались “пробивать” в редакциях и распространять в самиздате». К сожалению, Копелевы всеядны, и, к сожалению, этих знакомств слишком мало, чтобы создать критическую массу той человеческой и организационной поддержки, какую без труда завоевывает у фрондирующей интеллигенции
Читать!
С Копелевыми они расстаются «с тысячью взаимных обещаний», потом Шаламов передаст через Солженицына пьесу, и знакомство заглохнет до весны следующего года. Едва ли это промедление лишает Шаламова чего-то большего, что то, что активный, общительный и поверхностный Копелев и так делает для распространения самиздата. Решает не самиздат, решают его читатели. Относительно же возможностей официальной публикации — пусть «Колымские рассказы» дойдут до Твардовского не через Берзер, а через Саца — мнение не изменится: нам это не нужно.
Жить на пенсию в 42 рубля в Москве невозможно, и с конца пятидесятых годов Шаламов подрабатывает рецензентом журнального самотека, продукта горьковской утопии самозарождения писателя из всеобуча. Эта иссушающая мозг и плохооплачиваемая работа не дает никакого положения, и Шаламов, возможно, обманывает себя, когда записывает в дневнике, что его отношения с «Новым миром» ухудшились после того, как он рекомендовал повесть бывшего врача-заключенного. Ни автор, ни вещь не названы, и вообще трудно представить, что рекомендация какого-то сортировщика самотека могла задержать внимание, тем более дойти до стадии конфликта. Между Шаламовым и этажами, где принимаются решения, этажами литературной власти — в буквальном смысле непроходимая кафкианская пропасть.
Что такое советский толстый либеральный журнал, видно из подробного рассказа Солженицына о прохождении рукописи «Ивана Денисовича». Вкратце фабула такова. Жена друга Солженицына Копелева Раиса Орлова частным образом передает ее Анне Берзер, одной из случайно затесавшихся в этот зверинец действительно либеральных сотрудниц третьего эшелона. Берзер хитроумным образом обводит вокруг пальца трех или четырех замов Твардовского, подсунув им повесть с учетом характера каждого из сукиных сынов и со словами, которые заранее отбивали бы охотку ее читать. И лишь после этих акробатических трюков, нейтрализовавших субординацию, для того и существующую, чтобы стоять на пути любого сюрприза, о чем опытная Берзер прекрасно осведомлена, повесть напрямую вручается хозяину канцелярии, опять же в сопровождении внешне проходной, но в свете крестьянского происхождения начальника определяющей реплики: лагерь глазами мужика. Все это неспроста отдает чем-то кафкианским. Именно такова советская издательская действительность, где отношения писателя с литературным журналом декорируют его истинные отношения с репрессивным подразделением идеологического отдела ЦК партии с прекрасно вымуштрованным избыточным штатом, естественными для такой инстанции роскошью интерьеров и церемониями, феодальной иерархией от всемогущей именитой элиты до почти безымянной челяди, — словом, со структурой, озабоченной словесностью лишь в той ничтожной, хотя и неустранимой мере, в какой специфика поглощенной партией и выполняющей ее задачи литературы не может быть сведена к агитпропу. Банальность и простота этой картины, с одной стороны, снимают, за его как бы очевидной нелепостью в ситуации, глухой к любым подобным вопросам, а с другой стороны, очень резко ставят вопрос: как с такого рода учреждением может сотрудничать даже не гениальный писатель, а просто неиспорченный проницательный человек, такой как Шаламов за вычетом его гения. На этот прямой вопрос требуется недвусмысленный ясный ответ. Может. Все определяется наличием или отсутствием выбора. У Шаламова этого выбора никогда не было. Крайний случай отсутствия выбора — это пространство, обнесенное колючей проволокой, но тот же принцип господствует и снаружи. Выйдя из лагеря, Шаламов опять оказался в лагере, который «мироподобен» в обе стороны и в котором он со временем распознает выношенную на Колыме и вынесенную с Колымы модель мира, где власть принадлежит лагерному начальству и ворам, а «битому фраеру», не принадлежащему к этим кастам, остается изворачиваться, как ляжет случай. По существу, всю биографию Шаламова следует рассматривать как биографию зэка (зэ/ка, что он неизменно подчеркивал) или в лучшем случае ссыльнопоселенца, лишенного настоящего выбора и местожительства, и работы. Как сказал один его колымский товарищ, приветствуя другого, только что отбывшего срок: «Ну, Алеша, поздравляю тебя с выходом из малой зоны в большую…». Эволюция дара Шаламова осуществлялась в бесконечно стесненных условиях, иначе можно было бы вообразить цикл «московских рассказов», дополняющий и завершающий циклы колымских — этот последний колымский, но уже московский, рассказ попробовал дописать за него Густав Герлинг-Грудзинский, лишенный точного знания обстоятельств гибели Шаламова, но так же утверждающий их высшую достоверность, как делал это Шаламов в рассказе «Шерри-бренди», не будучи очевидцем гибели Мандельштама. Время от времени за горизонтом этой «большой зоны» Шаламову мерещится настоящая воля, куда он в поисках понимания и диалога отправляет свои послания без адреса, как некогда отправил с Еленой Мамучашвили стихи Пастернаку, но Пастернака там нет, послания застревают на полдороге, и вся жизнь узника-Шаламова протечет в этой безвыходной одиночной концентрационной вселенной.
В августе Неклюдова с сыном в Коктебеле, по писательской путевке. «Здесь вся “знать”… очень смешная сцена, когда он [поэт Леонид Мартынов] в столовой увидел Твардовского и, как-то странно подпрыгнув... с подобострастием ему поклонился». Через много лет Шаламов на законных основаниях насладится тамошним обществом и экскурсией по Дому-музею Максимилиана Волошина.
В декабрьском номере журнала «Сельская молодежь» усилиями Федота Сучкова напечатана подборка стихов, а Борис Слуцкий по неведению сватает Шаламова некоему магаданскому альманаху, которым заправляют уже знакомые ему провокаторы и отборная сволочь — таковы его успехи на издательском поприще.
Хроника блокады. Журнал «Знамя» предлагает ему написать серию очерков о Москве двадцатых годов. Шаламов с воодушевлением берется за работу и за неделю делает пять листов, но опубликованы — в другом журнале и в сокращенном виде — они будут только через четверть века, а полностью увидят свет уже в новом тысячелетии.
1963
Семь следующих лет — решающие для Шаламова. Репетиция этого прорыва к истине и в большую литературу состоялась семилетием раньше, во время недолгого пребывания Шаламова на седьмом литературном небе в обществе гостеприимного «нэбожителя», но этот неверный период послелагерной эйфории не оставил ему ни единомышленников, ни постоянной питательной литературной среды, ни авторитетных в этой среде знакомств, ни неподверженного капризам благосклонности или неприязни признания, ни ориентиров, достойных его дара и честолюбия. Да и сам Шаламов был не готов к прорыву — его полуоформленный опыт старого колымчанина только искал себя на дорогах слагающегося эпоса. Сейчас Шаламов движется в направлении всего этого, полный сил и уверенности в себе.
Вся его послелагерная биография — череда взлетов, перемежающихся крушениями и растерянностью, но каждый следующий взлет выше предшествующего, пока наконец вся концентрационная вселенная, пройденная душой от края до края, не оказывается во власти поэзии.
Его отношения с Солженицыным проистекают из естественной взаимной тяги друг к другу. Успех младшего товарища ослепителен, но непрочен. Эстетические и идейные разногласия, если идейные еще как-то артикулированы, не проявляют себя перед заступающим дорогу общим врагом — страшной советской машиной лжи и обуздания писательских честолюбий, низведения художника до служащего всеохватывающей зловонной бюрократической корпорации.
Шаламов, воспитанник спонтанности искусства начала века, ненавидит и презирает предписанное советскому писателю «черепашье», тщательно контролируемое, «со щепочки на щепочку», пайковое карьерное продвижение («Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает»), кроме того, у него просто нет времени, годы и силы ушли на то, чтобы сделать карьеру лагерного фельдшера. Успех Солженицына вдохновляет его. Солженицын мыслит и действует, как настоящий художник: написал, издал, проснулся знаменитым. Поздняя запись в дневнике Шаламова проясняет его эволюцию в отношении Солженицына: «Москва двадцатых, но без меня, без моей фамилии». Звучит враждебно и осуждающе, но под осуждением таится и другой смысл. По рассказам самого же Шаламова, Москва двадцатых не столь уж плоха. Скверно то, что это отнюдь не Москва двадцатых, это протухшая послесталинская Москва шестидесятых годов, где авантюра художника, подняв пыль лихорадочных общественных ожиданий и черпая в них харизму, стремится вырасти в циклопическое учительство, сосредоточив в себе все подмены истины и искусства, как власть, которой оно противостоит, сосредоточила в себе все подмены политической мысли и институтов уничтоженного им революционного общества, и этим духом подмены, духом перерождения заражена вся советская жизнь, другой она себя просто не знает.
В течение всего года они обмениваются письмами, Солженицын бывает у Шаламова дома, а осенью приглашает отдохнуть на своей деревенской даче. Шаламов берет с собой стопку бумаги для работы, но едет не работать, а по-человечески пообщаться, тогда как у Солженицына строгий график, и разговорам он может уделять полчаса после ужина. Солженицын работает как машина — метод, противоположный шаламовскому, каждый рассказ которого прокрикивается, вытягивается наитием, оставляя черновики в голове. В статьях о Шаламове это связывают с подлинностью свидетельства, исходящего из уст человека, повергающего себя ради этой подлинности в подлинность физической муки. Действительно, зрелище Шаламова, ломающего мучительной декламацией сопротивление еще более измученной памяти и через живую речь восстанавливающего страшную правду о человеке, скрытую в клетках тела, должно впечатлять, но это мученическое прокрикивание текста заслоняет своим драматизмом суть дела. Суть же в том, что введение себя в подобного рода транс — необходимый для Шаламова профессиональный прием, посредством которого достигается «вдохновение» или высшая дистанция от противной существу поэзии повседневности — той повседневности, где не облагороженному творческим началом лагерному опыту действительно лучше пребывать втуне, как неустанно повторяет Шаламов, опуская очевидный для него центральный пункт своего колымского нарратива — его не-бытовую, лиро-эпическую природу. Особенность шаламовского метода в том, что свидетельства униженного и беспомощного перед последней низостью лагерей тела крайне парадоксальным образом сочетаются в состоянии экзальтации с высшими достижениями европейского духа, рождая художественный текст, полностью очищенный от какой бы то ни было непроработанной злобы дня, текст, связующий высоты и бездны, как разряд молнии, и совершенно свободный от трухи времени и места, в которых он создавался, следовательно, эстетически и содержательно всеобъемлющий. В письме Борису Лесняку он очень рано предостерегает от «позиции», которая есть дело критика, но не писателя. Этот последовательный отказ от «позиции» делает позицию повествователя позицией поэта, прибегающего к действенным профессиональным приемам, чтобы на языке, бесконечно далеком от повседневности, выразить обойденные традиционным искусством стороны мира и человечности. Декламация Шаламова — это физические условия, в которых слова находят друг друга и выстраиваются аутентично, без посредничества быстро ветшающих указателей «духа времени». Указатели устареют, и слова перестанут вести читателя к самопознанию через приобщение к истине, потеряют для него смысл и интерес, как это произошло с текстами Солженицына.
По просьбе последнего Шаламов читает ночами груды стихов и прозы хозяина, пока наконец, одуревший от плодов «грамофании» и не понимая, что ему делать в компании механизма, бесперебойно строчащего перегруженную «позицией» беллетристику, не сбегает в Москву. В дальнейшем определение «графоман» по отношению к Солженицыну станет у Шаламова постоянным. Это не совсем справедливо, поскольку метод Шаламова уникален, и гений не должен мерить обычного литературно одаренного человека собственной меркой, они отличаются и методами работы, и ее плодами, и адресатом. Об адресате обоих я скажу позже. Мешает и некоторый психологический диссонанс — Солженицын не тонок, «чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека», слишком деловит в ущерб сердечности отношений, которая очень нужна Шаламову как противовес общей разочарованности в людях и природной склонности к одиночеству, правда, наравне со столь же стойким идеализмом и стремлением к солидарности.
В эти месяцы Шаламов ставит свои трогательные тесты на соотношение в советском человеке запросов брюха и духа: выходит на улицу с книжкой журнала, в которой напечатана какая-нибудь вещь Солженицына, и считает, сколько народу спросит, где взял, а потом сравнивает с количеством людей, привлеченных стеклянной банкой с топленым маслом. Когда Шаламов чем-то увлечен, в нем пробуждается много детского, непосредственного.
Всю первую половину шестидесятых он живет в писательском доме на Хорошевском шоссе, деля две комнаты в коммунальной квартире с женой, Ольгой Неклюдовой, и пасынком Сережей, впоследствии филологом и исследователем фольклора, который будет избегать разговоров об отчиме, хотя оставит о нем небольшой мемуар под названием «Третья Москва». Неклюдов показывает Шаламова независимым, весьма «некорпоративным» человеком, в равной степени жертвой собственной неспособности сходиться с людьми и предвзятого отношения продвинутых московских литературных кругов, ценивших в нем скорее очеркиста, чем художника, и совершенно не понимавших масштабов явления, с которым имеют дело. Все это очевидно, однако у Неклюдова Шаламов предстает каким-то пережитком двадцатых годов, полностью дезориентированным в новой действительности и беспомощным перед ней — его усилия быть услышанным сводятся к нелепой, трагикомичной борьбе с чудовищной мясорубкой издательской практики, и плоды этой борьбы ничтожны — «в этой его жизни победили они», заключает Неклюдов. Он ошибается. Таким он мог видеть Шаламова начала шестидесятых — уже к середине десятилетия семья распалась, Шаламов одиноко жил в своей комнате, и в дневниковых записях сетует на неотвязное шпионство (надо полагать, Ольги Неклюдовой), от которого его освободит переезд в 1968-м в новую коммуналку, этажом выше, — совершенно ясно, что в таких условиях Шаламов меньше всего склонен посвящать домочадцев в свои дела и делиться своими планами, стало быть, суждения Неклюдова основываются на заблуждении. Глубину его неведения выдает фраза: «Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом». Стремился, и еще как!
Быт Шаламова в эти годы вполне приемлем. Неклюдова заботлива, домовита и, вероятно, робеет мужа, человека слишком уж из другого мира, вернее, миров — и колымского, и высшего, куда этот колымский получает через него выход. Сергей Григорьянц, бывавший у них в начале шестидесятых, говорит о «приятном жилище», обставленном уютно и с большим вкусом, о милой, интеллигентной хозяйке и о странно смотрящемся среди всего этого «громадном худом лагернике Шаламове». В противоположность ему Солженицын, тоже вспоминая начало шестидесятых, пишет, что семья уже как-то явно разлажена: такое впечатление, замечает он, что каждый ведет собственное хозяйство, и лишь в один из визитов гость застает их вместе — позже хозяин всякий раз принимает его в своей комнатушке, «сходной с камерой», по-видимому, той, для которой Федот Сучков не нашел других слов, кроме как плачевно-жалостливых: «узкая, скудная» — стол, диван и тесный проход. Пишу не кровать, а диван, поскольку именно о диване пишет в Солотчу Неклюдова: «Очень хочется выбросить твой диван и купить тебе новый. В этом такая уйма пыли, надо будет это сделать, когда ты приедешь. Его и перетягивать не стоит, он такой громоздкий, занимает всю комнату». Шаламов как-то органически чужд и враждебен быту. Можно отнести это на счет поэтической сосредоточенности, постоянного рабочего состояния, а можно — на счет просто отсутствия какого-либо упорядоченного быта с самого детства: в 1918-м Вологда и шаламовский дом переживают большевистские «уплотнения», потом он уезжает в Москву, где живет где придется, потом Вишерский концентрационный лагерь, потом опять недолгая жизнь в Москве — и семнадцать лет колымских скитаний между прииском и больницей, кончающиеся возвращением, но не в Москву, а на окрестные торфяники, откуда в Москву нужно добираться электричками и дрезиной, и уже совсем поздно, почти в пятьдесят, обретение какого-то дома, но тоже в коммуналке и уже скорее угла, чем дома в европейском, мещанском смысле.
Заканчивается октябрьское письмо Неклюдовой трогательным: «Целую тебя крепко, любимый мой, Варлашенька». По-видимому, инициатива ведения каждым собственного хозяйства исходит от Шаламова, однако любящего отношения нелюбимой жены не меняет.
Шаламова изводят хронические недуги, хотя складывается впечатление, что к действительным серьезным болезням добавляется мнительность, еще усиленная самомнением полуобразованного в медицинском смысле лагерного фельдшера, путающего, например, симптомы аневризмы аорты с симптомами другого заболевания сердца, на что со слов знакомых специалистов указывает в письме Гродзенский. Это сочетание реальных и мнимых хворей еще более осложняет быт. В неотправленном письме Солженицыну Шаламов жалуется на непонимание близкими всей тяжести его состояния и перечисляет условия, в которых он может существовать сравнительно без помех: исключение поездок по железной дороге, невозможность есть ни в какой столовой (при этом Олег Чухонцев рассказывает, что в столовой редакции журнала «Юность» Шаламов прекрасно поглощает полный обед), строгая диета, запрещающая все жареное, любое мясо, любые консервы, наконец, тепло, что понятно у промороженного до костей колымского старожила, чьи перчатки, наподобие кожи Эльзы Кох, живут в каком-то «музейном льду», во всяком случае, одна из них экспонируется в магаданском Музее санитарного управления, приложенная к истории болезни Шаламова. К тому же мешают работать постоянные сильные головные боли.
Шаламову поставлен диагноз «болезнь Меньера», но под этим относительно безобидным диагнозом кроется другой, не поставленный, а под не поставленным другим может скрываться третий, напрямую отсылающий к «безумноватым» глазам, отмеченным Солженицыным. Не исключено, что впечатление Солженицына верно. Солженицын натуралист, его творческий метод: берется человек и описывается, — ответ вне искусства, как говорит Шаламов. Не исключено, что лишенный фантазии и не имевший в пору написания мемуара особых причин выставлять Шаламова в черном свете Солженицын просто углядел некоторое отклонение от нормальности, образцом которой справедливо почитает себя, и отметил это отклонение, как бесстрастная фотокамера. Не стоит забывать, что именно в 65-м году, когда сделано наблюдение, Шаламовым написаны его лучшие рассказы — «По лендлизу» и «Сентенция», оба, конечно, законченно «безумноваты» по глубине проникновения в устройство концентрационной вселенной и человеческую природу.
В августе Шаламов сдает в издательство «Советский писатель» новую поэтическую книжку. Через год она выйдет, как обычно, обезображенной: «…больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это — не тот сборник, который мне хотелось бы иметь», «…и в предыдущей моей книге («Огниво»), и в этой нет главного, самого важного». Кроме того, в издательстве уже не первый год лежит папка с КР, которые директор, аппаратное животное Лесючевский, публиковать, конечно, не собирается, но на всякий случай не возвращает. Это из хроники нескончаемой блокады, которой власть и совпис подвергают всю поэтическую и прозаическую работу Шаламова. К хронике блокады можно добавить еще одного участника: «…в редколлегию “Литературной газеты” я отнес 150 стихотворений, исключительно колымских (1937—1956)... имел беседу с Наровчатовым — ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское». Кто такой Наровчатов? Кто такой Лесючевский? Кто такой Фогельсон? Этим людям повезло, их навсегда запомнят как литературных убийц Шаламова.
Сразу после выхода второго сборника стихов важный литературный функционер Тимофеев предлагает Шаламову рекомендацию в Союз советских писателей, но тот, по словам Лесняка, не желает связывать себя обязательствами, налагаемыми членством в этой богомерзкой организации, откуда незадолго до того был исключен Пастернак. Академик Леонид Тимофеев постоянно маячит на обочине шаламовской биографии. В литературоведческом словаре, составленном этим мелким бесом вместе с подельником по фамилии Венгров, «нет вовсе слова “гений”!», — удивляется в Записных книжках Шаламов. Гению невдомек, каким образом о его существовании неизвестно человеку, предлагающему ему рекомендацию в ССП. Ситуация гротескная, но для советской литературной действительности обыденная.
Все десять лет послелагерной жизни писательская репутация Шаламова держится, по существу, самиздатом («Рассказы мои по Москве ходят, я слышал» — Солженицыну, видимо, в ответ на сообщение, что в столице «Колымские рассказы» читают). Изуродованные, выхолощенные поэтические сборники не в счет — по наблюдению Неклюдова, они, напротив, оставляют превратное, чуть ли не обратное должному впечатление о Шаламове как поэте. Однако репутации, которую создает самиздат — возможно, это действительно несколько десятков, от силы сотня списков, как считает один из исследователей — недостаточно. Месседж Шаламова настолько фундаментален, что носитель его по необходимости вырастает в масштабное общественное явление. Превращение частного человека в такое явление требует рычагов. Безупречная репутация политкаторжанина и автора самиздата — один из них, но не главный. Главный — книга. Общественный резонанс вызывает книга, это убеждение Шаламова полностью разделяется властью, которая делает все возможное, чтобы книга не вышла. Федот Сучков вспоминает, что именно тогда Шаламов, разуверившись увидеть КР напечатанными, дает ему рукопись из примерно шестидесяти рассказов, которые постепенно расходятся в самиздате. Не думаю, однако, что Шаламов разуверился окончательно. 1963-й — год качания того маятника, о котором он говорил с Солженицыным, к тому же рукопись еще лежит и в издательстве, и «Новом мире», а в самиздат — это ведь тоже аудитория — Шаламов пускает рассказы без всякой оглядки на легальную публикацию. Например, Яков Гродзенский постоянно отчитывается в письмах об откликах на его прозу в Рязани. Интересно, что в Рязани его рассказы распространяет Гродзенский, а не Солженицын, забирающий их у автора порциями во время наездов в Москву.
Настоящей литературной и общественной среды Шаламов покамест не приобрел. Круг общения его по-прежнему очень узок, довольно случаен и не включает людей, способных служить реальной «группой поддержки». В основном это товарищи по лагерной судьбе, с большинством из которых Шаламов поддерживает связь преимущественно путем переписки: Гродзенский — рязанец, Лесняк и Португалов (сам поэт и опекун чукотских поэтов) — магаданцы, Аркадий Добровольский и его жена Елена Орехова — киевляне и в связи с резким ухудшением состояния здоровья главы семьи все реже дают о себе знать. Солженицын. Вера Клюева, переводчик с французского и лингвист, которая косвенно сыграет в жизни Шаламова важную роль: «Туся», упомянутая в том письме Неклюдовой, где она печалится о диване — это Наталья Зеленина, дочь тяжело больной Клюевой, архивист и сослуживец Ирины Сиротинской, по чьей рекомендации последняя попадет к Шаламову. Вероятно, Леонид Волков, писавший под псевдонимом Ланнит, знакомый Шаламова еще по салону Бриков, тоже лагерник и специалист по Родченко. Сиротинская пишет, что познакомилась с ним через Шаламова, а это не ранее второй половины шестидесятых, следовательно, связь поддерживалась. Особый случай — Наталья Столярова, довоенная французская репатриантка, лагерница и активный антисоветчик, по версии КГБ, познакомившаяся с Солженицыным как раз в доме Шаламова и в дальнейшем хранившая у Ильи Эренбурга рукопись «Архипелага ГУЛаг», человек на редкость незаурядный, отважный и энергичный, но их с Шаламовым отношениям не хватает контекста и конкретной задачи. Наверняка кто-то из литературной среды, среды вынужденного профессионального обитания, вроде Федота Сучкова, о котором Шаламов отзывается сдержанно, Бориса Слуцкого, Олега Чухонцева и будущего правозащитника и политзаключенного Сергея Григорьянца, в начале шестидесятых сотрудника журнала «Юность», впрочем, Григорьянца с Шаламовым знакомит Валентин Португалов. Иногда в поисках «Колымских рассказов» («где-то услышал о них») Шаламова находит кто-нибудь из старых колымских приятелей, таких как режиссер Леонид Варпаховский, сидевший на «23-м километре» от Магадана (концлагерь «Промкомбинат №2») и поставивший с крепостными актерами «Травиату». Весь круг людей, связанных с Пастернаком и первой женой Галиной Гудзь, кажется, исчез полностью, исключение, по-видимому, — та же Наталья Столярова и ее подруга, переводчица и художница Лидия Бродская, имя которой встречается в дневниках сына Цветаевой Георгия Эфрона. Любопытно, однако, что Шаламова годами преследуют недотыкомки-Асмусы — со дня встречи с «автором работ по интуиции в философии» в Переделкино на даче Пастернака, через прежнюю квартиру, в которой сквалыга-профессор перед выездом отдирал линолеум от пола и вывинчивал шпингалеты, и до асмусовской тещи, вбившей в стол на общей кухне нынешней коммуналки гвоздь, чтобы не облокачивались соседи.
Кроме шахмат, Шаламов увлекается футболом и болеет, согласно Валерию Есипову, за «Спартак», в дневниках присутствует запись-напоминание: «Сборник “Спутник любителя футбола”. II круг 1963». Болеет он страстно: орет, подпрыгивает и размахивает руками.
Через Сучкова, лично знавшего Андрея Платонова и занимающегося его творчеством, Шаламов получает доступ к спискам «Котлована», лучшей, по его мнению, книги Платонова, «Чевенгура», фрагментом которого почему-то считает повесть «Впрок», и незавершенной аллегории «Джан». Англичанин Роберт Чандлер пытается как-то соотнести Андрея Платонова с лагерным «романистом» из рассказа «Заклинатель змей», но рассказ написан в 54-м году, когда о ненапечатанных вещах Платонова никто не знал, печатавшееся и доступное — второсортно, и в литературе этого имени просто не существует.
Шаламов домосед («Ольга Сергеевна и Сережа на даче... я же все время дома — могу только уйти в магазин» — Солженицыну, «Я всегда дома» — Галине Воронской). Помимо магазинов, он ходит в редакции — в «Новом мире» он еще работает внутренним рецензентом, а в издательстве «Советский писатель» готовит сборник под названием «Шелест листьев»: «…рукопись включена в план и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще — два чтеца кроме Главлита… сражаюсь за каждую строку». Имя, паразитически прилипшее к Шаламову, — напомню, — Виктор Фогельсон, которого, надеюсь, без устали превращают в шашлык сотрудники тамошнего отделения издательства «Советский писатель».
КомментарииВсего:11
Комментарии
Читать все комментарии ›
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39438713
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10662471
- 3. Норильск. Май 1308096
- 4. ЖП и крепостное право 1122817
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911233
- 6. Не может прожить без ирисок 863556
- 7. Закоротило 843600
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804312
- 9. Коблы и малолетки 776635
- 10. «Роботы» против Daft Punk 765013
- 11. Затворник. Но пятипалый 530353
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457883

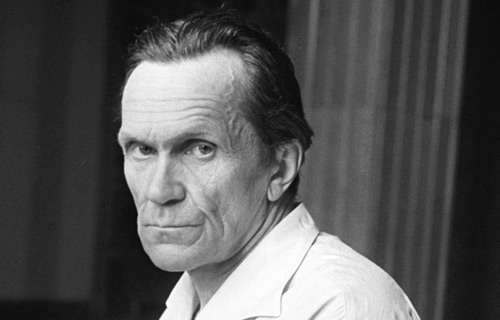
Э-э-э-э-э... Стоп-машина.
стиль даже не новояза, а черт знает что, такой совесткий как комбайн енисей.
но все же спасибо за Шаламова!