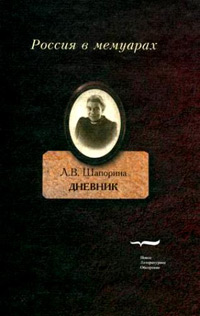ПОЛИНА БАРСКОВА размышляет над блокадными записями Любови Шапориной
Имена:
Любовь Шапорина
© Павел Пахомов

Издательство «Новое литературное обозрение» в серии «Россия в мемуарах» выпустило в двух томах
дневники Любови Шапориной, охватывающие значительную часть XX века. В своем отзыве на эту примечательную публикацию я сосредоточусь в первую очередь на блокадном периоде, полагая, что этот отрезок призматически собирает самые острые особенности письма и видения Шапориной, при том
что и другие хронологические пласты дневника дают массу пищи для размышлений. Дневниковые свидетельства Шапориной покрывают значительные и сложные массивы времени и пространства от революционной России до Парижа — и обратно, в чудовищный блокадный и не менее чудовищный и голодный послеблокадный Ленинград. Среди ее знакомых самые яркие представители русской и советской творческой элиты, музыкальной, литературной, театральной: Шостакович, Ахматова, Остроумова-Лебедева, сестры Данько, Наталья Крандиевская. И, конечно, приятель и соратник бывшего мужа Шапориной, Юрия, Алексей Толстой, чья судьба и власть привлекательной и смущающей тенью отмечает эти страницы. Шапорина понимала в искусстве теней, ведь ее центральным, определяющим талантом, помимо искусства перевода, театральной декорации, редактуры, было изготовление кукол-марионеток, зловещих и прелестных.
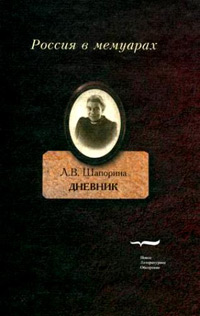
Итак, 22 сентября 1944 года Шапорина записывает: «Встретила на улице Анну Ахматову. Она стояла на углу Пантелеймоновской и кого-то ждала. <...> Разговорились. “Впечатление от города ужасное, чудовищное. Эти дома, эти два миллиона теней, которые над ними витают, теней умерших с голода — этого нельзя было допустить, надо было эвакуировать всех в августе, в сентябре. Оставить пятьдесят тысяч, на них бы хватило продуктов. Это чудовищная ошибка властей. Все здесь ужасно. Во всех людях моральное разрушение, падение — Ахматова говорила страшно озлобленно и все сильнее озлобляясь, буквально с пеной у рта, летели брызги слюны. — Все немолодые женщины ненормальные… Никаких героев здесь нет, и если женщины более стойко вынесли голод, то все дело тут в жировых прослойках, клетчатке, а не в героизме”. Мне уже не хотелось спрашивать ее о работе, о стихах, у меня было ощущение, что меня, всех нас полили грязными помоями, оскорбили незаслуженно».
Читать текст полностью
Я привожу этот не вполне аппетитный и не простой для интерпретации эпизод не с целью бросить очередную тень на облик Ахматовой, столь отчаянно и, как показало время, тщетно сопротивлявшейся таким «случайным» теням и взглядам: ее отношение к блокаде психологически сложно, отягчено эвакуантским чувством вины и травмой послеблокадного столкновения с доблокадным женихом Владимиром Гаршиным, чей блокадный опыт и перемену она понять не смогла.
Скорее мне представляется важным историзировать ее горькое восклицание «Никаких героев здесь нет». Почему Ахматова, часто открытый сочувствию человек и искусный интерпретатор истории, не смогла распознать героизм в руинах и изможденных, надломленных жителях своего города? В самом ли деле героизм исключает разрушение и падение, возможен ли взгляд на историческую катастрофу вне необходимости нормализации и ее антипода-близнеца — патологизации? Полагаю, что ситуация эта того же рода, как блокадное радиовещание, которое было, как известно, двух родов: внутреннее и внешнее — для Большой земли. Этот пропагандистский прием — одно из многих свидетельств того, что требования к героизму извне блокадного опыта и самый опыт — явления трудносовместимые. Публикация дневника Шапориной дает нам драгоценную возможность взглянуть на эти явления без шор и задуматься о смысле и ценности таких категорий, как «героизм», «выживание» и «идеология».
Понимая, какой гнев читателя я рискую на себя навлечь, я бы хотела предложить аргумент, что идея блокадного героизма, с заглавной мраморной вызолоченной буквы «Г», — того, который транслировался для позиции вне-нахождения (для Москвы, для Ташкента, для будущего), — остро нуждается в переоценке. Хотя бы потому, что эта терминология была порождена пропагандой в 1941 году, для того чтобы снять с государства, на тот момент не справлявшегося со своими военными задачами, ответственность за блокадное существование и смерть миллионов людей. Тогда Ленинград был объявлен городом-фронтом, и его бойцы — те, кто был в силах производить военный продукт, — получали вознаграждение в виде рабочей карточки и идеологического статуса героя, а остальные, соответственно, этого не получали. Так, например, многажды воспетая «Медаль за оборону Ленинграда» предназначалась именно обладателям рабочей карточки, а не иждивенцам. То есть, конечно, не старикам, делившимся последним с внуками (погибали обычно и те и другие); не сотрудникам многочисленных учреждений, уволенным первой осенью по разнарядке Смольного ради сохранения продуктов для «бойцов» и проводившим многие отчаянные месяцы в поисках новой работы; не тысячам беженцев, нахлынувшим в город в поиске спасения от наступающих немцев (эти умирали первыми, так как были не в состоянии обзавестись никакими карточками вообще, да и вещей для продажи у них не было). Впрочем, и обладание драгоценными документами не могло спасти от такой гибели, которую суровый Дант поместил в отдаленную область Ада, с глаз долой; на 125 граммов хлеба в день выжить, согласно физиологам, невозможно; это значит, что выжившие выживали как-то иначе, государства не спросясь и от государства скрываясь. Как пишет в своих воспоминаниях Б.М. Михайлов: «Меня нельзя убедить, чтобы кто-то в Ленинграде остался живым, питаясь только продуктами, получаемыми по карточкам. Пусть блокадник, оставшись один на один с собой, попробует сказать себе такое — не скажет!» Блокадная история только начинает нам приоткрываться, и поэтому публикация дневника Шапориной — огромный шаг в сторону понимания того, что значило спастись и спасти зимой 1941—1942 годов.
Блокадный город, который встает со страниц дневника Шапориной, разительно отличается от блокадного города, который вот уже 60 лет навязывается нам государственной историографией: здесь гордые интеллектуалки с дистрофическими кровоподтеками и по неделям не встающими из зловонных кроваток родственниками водят небескорыстную дружбу с прелестными «булочницами»-проститутками, кормящимися при Смольном (история блокадного выживания есть прежде всего история института советских привилегий). Для тех же, кому к власти не приблизиться, главная надежда на спасение — скупщики-комиссионеры, одновременно презираемые (блокадник-академик Дмитрий Лихачев называл их «червями») и необходимые; в отличие от государства не оставившие брезгливо сотни тысяч дистрофиков погибать в выморочных черных квартирах, но несущие им еду по непомерным ценам в обмен на модную одежду, антикварные книги и драгоценности. Здесь эвакуация считается большей опасностью (тиф, нищета, бездомность, лишение всего имущества в городе), чем вторая блокадная зима; здесь никто никогда не верит официальной информации, но все порождают и обсуждают слухи — от надежды на спасительный приход американцев и французов до попыток (особенно в начале эпопеи) приспособиться к мысли о будущем под немцами.
Как блокадный город Шапориной отличается от стереотипной репрезентации блокадной трагедии, подвергшейся нескольким поколениям цензоров, так необычны и позиции повествователя этого текста. Любовь Шапорина, одухотворенная, вопиюще талантливая, просвещенная интеллигентка, страдалица и спасительница семьи (включающей и приемных детей друзей-арестантов), сотрудничает с НКВД, называет свой народ бескультурной чернью, постоянно позволяет себе однообразно-разительные антисемитские комментарии.
Перед нами свидетельство выживания в советском веке сознания, постоянно нуждающегося в подтверждении своей исключительности (самый проницательный анализ этого явления принадлежит другой блокаднице — Лидии Гинзбург) и находящегося в постоянном формирующем конфликте с историей. Мы видим здесь любопытные линии протяженности. Согласно активным сегодня мифологиям утопического дореволюционного прошлого, оно было совершенно подавлено и изолировано советским настоящим, однако читатель Шапориной может наблюдать, как одни и те же черты социального мышления переходят из одной эпохи в другую, меняя маску, но не сущностную природу. Например, классовая надменность, упивание своей позицией над безмысленной толпой транслируется в надменность советской привилегированной культурности (напомню, муж Шапориной был преуспевающим советским композитором), а антисемитизм, бывший общим местом русской аристократии, перерождается в гордое чувство причастности к народу-победителю, стоящему, как мы видим из бесконечных bons mots Шапориной, неизмеримо выше евреев, которых. «вероятно, скоро будут судить за трусость» (интуиция ее не подвела, и расправа последовала, только причинно-следственные связи оказались не так ясны).
Наблюдения Шапориной поражают парадоксальным сочетанием последовательности и противоречивости — перед нами дискурсивный коллаж, результат упорного и остроумного самоконструирования. Антисемитизм соседствует с антирасизмом («А они ежедневно нас обстреливают из дальнобойных. Варвары самые настоящие, и весь их расизм провалится как бред!»), неприятие тоталитарной власти — с приступами умиления Сталиным.
При этом иногда эти записи ошеломляют проницательностью и способностью понимать политические хитросплетения (что, каюсь, срезонировало у меня с меланхолическим замечанием Сергея Довлатова, что в то время как «Лиля Брик и Эльза Триоле и не догадывались о сталинских бесчинствах, моя тетя знала все»): нищая кукольница в блокадном городе совершенно точно угадала, кто виноват в трагедии Катынского леса.
В сексотской линии повествования мы также видим богатейший и пронзительно противоречивый спектр эмоций и стратегий социального перформанса: Шапорина презирает своего «ведущего», заигрывает с ним, лжет ему и боится его: так же болезненны колебания отношений с подругами, которых она подозревает в доносительстве. Степень серьезности этой «игры» мы понимаем, когда первой версией «необъяснимого» самоубийства друга она считает ту, что, «вероятно, его пытались склонить к сотрудничеству».
Перед нами живая жизнь, отчаянно тянущаяся к выживанию, причем не столько тела, но и духа, двух постоянных искусителей и противников блокадника. Одним из наиболее любопытных моментов является психологическая стратегия выживания, почерпнутая Шапориной из самого главного и все же несовершенного учебника блокадной жизни — «Войны и мира» Толстого. Это идея перемещения внимания, пришедшая к Пьеру Безухову во французском плену. Шапорина перемещает внимание с еды на чтение, с себя на других, с отсутствия надежды на ее отчаянно сконструированный, неверный проблеск — день за днем все 900 дней; и так выживает, презирая, падая духом, постоянно борясь с собой и окружающим миром. Борьба эта далеко не всегда приятна, на взгляд стороннего наблюдателя (каковыми мы все и являемся), и часто может ставить в тупик современного читателя, который привык, чтобы за него кто-то занимался «смыслоделанием», выдавая готовые ответы; заранее деля людей и государства на несущих зло или добро; подменяя то, как было на самом деле, тем, как нам бы хотелось, чтобы было.
{-tsr-}Но с этой идеалистической позиции мы ничего не поймем про такие явления блокадного бытия, как черный рынок (только с недавних пор исследования историков Никиты Ломагина, Владимира Пянкевича, Джеффри Хасса, Ричарда Бидлака как-то нарушают могучее и брезгливое нежелание ничего об этом знать), видоизменения категорий морали и личности (идея «моральной дистрофии» еще ждет своего анализа), пересоздание городских инфраструктур. А главное — хотя это уже сейчас слишком поздно для большинства из них, но не для нас же! — мы не приблизимся к разрешению социальной проблемы блокадного стыда, самого кромешного и безжалостного цензора, порожденного несоответствием опыта идеологическим конструктам. Публикация дневника Шапориной дает нам шанс протрезвления; это еще один шаг на пути к замене памятников и мифов историей, состоящей из историй, например из истории одной немолодой женщины, вполне стойко вынесшей Ад и вполне подробно его описавшей.
Любовь Шапорина. Дневник. Том 1, 2. Публ. и комм. В.Ф. Петровой и В.Н. Сажина. Серия: Россия в мемуарах. — М.: Новое литературное обозрение, 2011