Автор скупыми, но уверенными штрихами набрасывает и фон – социальный и научный мир, окружавший его героя, – и сам портрет. Герой получается не слишком привлекательный
© Евгений Тонконогий

Недавно скончавшийся американский историк и искусствовед Лео Штейнберг в одной из своих лекций рассказывал о случившемся с ним в подростковом возрасте культурном шоке. Родился он в Москве, откуда семье пришлось сбежать, опасаясь за свою жизнь и безопасность (его отец, Исаак Штейнберг, был министром юстиции ленинского правительства во время недолгого романа большевиков с эсерами). Вырос он в Берлине, откуда
семье опять пришлось бежать, опасаясь за свою жизнь и безопасность. В Советской России в пору младенчества Лео расстреляли Гумилева и выслали «философский пароход». В Германии в пору его детства он ходил смотреть на книжные костры, которые устраивали пришедшие к власти нацисты. И вот, оказавшись в Лондоне, как-то раз он ехал на велосипеде из библиотеки в школу со стопкой романов Диккенса в немецком переводе (эта хитрость помогала ему выполнять домашние задания по литературе). Книжки упали с багажника и рассыпались по мостовой прямо под колеса автобуса. Лео замер, и тут произошло неожиданное: «Джаггернаут замедлил движение и осторожно объехал мои книжки. У меня перехватило дыхание — в этот момент я понял, что перенесся в иную культуру».
К чему это я? К тому, что вещи, которые нам в начале XXI века кажутся очевидными (даже если в реальной жизни они таковыми вовсе не являются, особенно к востоку от Варшавы), когда-то были очевидными только в Англии. Причем уже очень давно. Всем хорошо известно, что британское общество — негибкое и сословное, что правильный выговор до совсем недавнего времени был важным пропуском в мир привилегий и богатства, что даже для простых понятий вроде «диван» или «свитер» английские пролетарии и аристократы используют совершенно разные слова. И тем не менее стоит посмотреть почти на любую эпоху английской истории, как мы обнаружим там вельмож, полководцев, писателей и прочих властителей дум совсем не благородного происхождения.
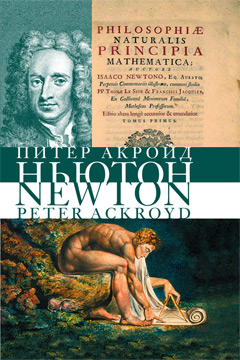
Это, пожалуй, первое, что поражает читателя в биографии Исаака Ньютона. Из обрывочных сведений, которые сохранила память со школьных лет, помнишь богатый парик и мантию, кембриджские коридоры, заседания парламента и Королевского научного общества, но совсем не помнишь (хотя, казалось бы, советская школа должна была это подчеркивать), что Ньютон был происхождения самого простого, из семьи линкольнширских йоменов (мелких землевладельцев, по сути — крестьян) и что стоило обстоятельствам повернуться на йоту иначе, он никогда бы не выучился читать и писать.
(Между прочим, то, что этот факт, да и вообще подробности биографии Ньютона или, скажем, Коперника, Дарвина, Кеплера, Менделеева, почти неизвестны широкой публике — это продукт советской образовательной системы и ее постсоветской наследницы, в которых дисциплина «история науки» провалилась в широкую щель между предметами гуманитарного и естественнонаучного цикла. Мне повезло: я в юности читал прекрасную книгу Геннадия Шингарева «Мальчик на берегу океана», о Ньютоне и о научной революции XVII века в целом. Читали ли ее выпустившие книгу издательские работники, не знаю: она была помечена категорией «для младшего школьного возраста» и содержала формулы, которые мне, отличнику-десятикласснику, были не вполне понятны.)
Читать текст полностью
Это — один из поражающих воображение эпизодов ньютоновской биографии на фоне английских общественно-политических нравов; есть и другой. В 1687 году (Ньютон уже всемирно признанный ученый) король Яков II требует, чтобы Кембриджский университет принял на обучение монаха-бенедиктинца Альбана Франциска и разрешил ему не приносить обязательную клятву монарху (как главе англиканской церкви и духовному предводителю всей страны). Кембриджские ученые мужи пришли в ужас от такого богохульства и потворства папистам; под предводительством Ньютона, который не отличался ни дипломатизмом, ни религиозной гибкостью, они заявили решительный протест — и королю пришлось пойти на попятный.
Вдумайтесь в это: король, не кто-нибудь, а король, в эпоху все еще довольно абсолютистскую, просит университет о небольшой уступке, и университет в лице людей, чей карьерный рост очень даже зависит от короны, решительно ему отказывает! Не думайте, что это единичный случай: до Ньютона Бодлеанская библиотека Оксфордского университета не позволила королю Карлу I взять книгу на дом: вот читальный зал, ваше величество, читайте как все. После Ньютона Оксфордский же университет не присудил Маргарет Тэтчер звание почетного доктора, до того почти автоматически достававшееся премьер-министрам, закончившим Оксфорд: университет посчитал, что правительство госпожи Тэтчер плохо справляется с проблемами образования. Вот тот дух Туманного Альбиона, без которого не было бы ни Ньютона, ни современной науки.
Из литературного наследия Ньютона в общеизвестном цитатнике осталось два высказывания, оба весьма смиренные: одно — как раз про мальчика на берегу, который находит то камешек, то ракушку красивее прочих, а великий океан Истины лежит перед ним неизведанный; второе, еще более популярное, — про то, что достичь чего-либо ему удалось лишь потому, что он «стоял на плечах гигантов». Биография Ньютона ставит это смирение в надлежащий контекст: Ньютон был человек болезненно самолюбивый, вспыльчивый, надменный, с несомненной манией величия (впрочем, вполне оправданной) и большими сложностями в социальной сфере. Не исключено, что даже знаменитая фраза про плечи гигантов была лишь издевкой в адрес заклятого врага — Роберта Гука, человека небольшого роста.
© Roderick Field

Питер Акройд
Акройд скупыми, но уверенными штрихами набрасывает и фон — социальный и научный мир, окружавший его героя, — и сам портрет. Герой получается, прямо скажем, не слишком привлекательный. Зато пример Ньютона идеально иллюстрирует известное высказывание Раневской про талант, который, как прыщ, может вскочить на любой жопе. Книга дает удовлетворительное представление о том, какую революцию совершили открытия Ньютона в деле познания мира. Пожалуй, особенно впечатляет проходное (и очевидное) замечание о том, что инженеры НАСА и сейчас пользуются ньютоновскими формулами для космических расчетов. При этом Акройд милосерднее к своим предположительно взрослым читателям, чем «Детская литература» была к своим — никаких формул в книге нет, разве что несколько раз встречаются страшные слова вроде «обратно пропорционально квадрату расстояния» или «дифференциальный метод».
Как у большинства математиков и физиков, период бурного творческого расцвета у Ньютона пришелся на несколько лет молодости; знаменитое яблоко свалилось ему на голову (эту легенду он сам пустил в народ) в 23 года. Зрелые и поздние годы ученого были заполнены другими заботами. Например, административной деятельностью: он много лет возглавлял Королевский монетный двор и многое сделал для приведения в порядок финансов государства; именно он определил количество шиллингов в гинее — 21, — которое продержалось триста лет. Он избирался в парламент от Кембриджского университета, хотя, по слухам, его голос в законодательном собрании прозвучал лишь единожды, когда он попросил слугу прикрыть окно. Он со страстью занимался теми областями знания, которые в отличие от физики, математики и астрономии не требовали юношеской гибкости ума, а именно алхимией, хронологией и трактованием древних пророчеств («тяготы евреев», предсказывал он, закончатся в 1944 году — Акройд считает, что он ошибся на год, но простор для интерпретации тут шире). Еще большую страсть он вкладывал в научные и околонаучные склоки; от ньютоновского удара посмертная репутация Роберта Гука начала оправляться только к концу XX века; для Лейбница, впрочем, яростный спор с Ньютоном о том, кто из них открыл дифференциальное исчисление, не стал концом карьеры — может быть, потому, что Лейбниц отчасти воспринимался как борец за честь всей континентальной науки (и аргументы его были в целом весомее ньютоновских).
Жизнь, не богатая внешними событиями; жизнь, главными вехами которой были научные озарения, о которых никакой биограф не может достоверно рассказать. Ньютон не путешествовал на расстояния больше чем от Кембриджа до Лондона, не заводил семью, не воевал, даже переезжал из квартиры на квартиру всего несколько раз в жизни. Его дружеские отношения с коллегами, учениками и родственниками немногочисленны и плохо документированы. Акройд, в сущности, совершил подвиг, сделав из такой жизни небольшую популярную биографию. Нельзя сказать, что она читается как захватывающий триллер. Но то, что она вообще читается — уже большое достижение. А важность этой эпохи и этой личности для нашего нынешнего мира, надо надеяться, после такой книги становится еще очевиднее. Особенно в России, где, повторюсь, с историей науки дела обстоят традиционно плохо.
Перевод Алексея Капанадзе свободен от языковых и исторических ошибок и ляпов; заметно, что переводчик и редактор не пожалели времени и сил на обращение к словарям, справочникам, поисковым системам и «Википедии». Хвалить за такое столь же странно, как за мытье рук перед едой, но {-tsr-}в текущих обстоятельствах это — редкое достоинство. Акройд — не только биограф и писатель-документалист, он еще и один из крупнейших современных британских прозаиков; слава богу, он не злоупотребляет своими стилистическими навыками в этой книге, но мастерство чувствуется в каждой строке, в построении каждой фразы. К сожалению, легкость и красота акройдовского текста в переводе несколько стушевались. И еще одно замечание: известное двустишие поэта-классициста Александра Поупа не только превратилось в четверостишие, но и утратило афористичность и изящество. А между тем существует блестящий и точный перевод Маршака:
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
«Да будет свет!» И вот явился Ньютон.
У этого двустишия есть позднейшее продолжение, тоже переведенное Маршаком. Оно остается актуальным и для XXI века. Предоставляю читателю найти его самостоятельно.
Питер Акройд. Ньютон. — М.: КоЛибри, 2011
Перевод с англ. Алексея Капанадзе





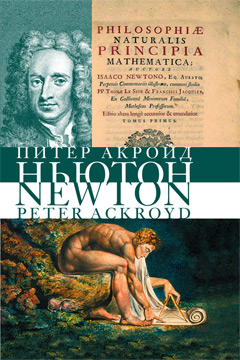

Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше".