Романом «Клоцвог» можно было бы проиллюстрировать антиномию: как язык определяет сознание, так и наоборот.
Совершенно разные романы – «Пилюли счастья» Светланы Шенбрунн и «Клоцвог» Маргариты Хемлин вызывают вопросы о том, кем, как и для кого рождается текст

Читать!
Для сопоставления двух романов, Светланы Шенбрунн и Маргариты Хемлин, есть несколько оснований. И то, что это книги условно «на еврейскую тему», и то, что они написаны женщинами о женщинах, и то, что обе в разное время выдвигались на «Русский Букер». Но главное – то, что повествование в каждом романе представляет собой развернутый монолог. Здесь уже начинаются разительные различия: эти монологи совершенно не похожи один на другой.
Роман «Пилюли счастья» Светланы Шенбрунн, вышедший в серии «Проза еврейской жизни» издательства «Текст», не новинка. Он публиковался в «Иерусалимском журнале» в 2000 году и в «Новом мире» (1, 2, 3) в 2006-м. Однако понять, что текст написан десять лет назад, человек, открывающий книгу, вряд ли сможет. Время написания не оставило в романе следов.
Из монолога героини мы постепенно узнаем, кто она, где и когда живет (эмигрантка, в Швеции, в конце восьмидесятых). Нина Тихвина не рассказывает историю. Читатель погружается в ее мысли, в поток сознания, который вполне может переставать быть монологом и превращаться в спор. Главный оппонент – Достоевский; здесь присутствуют постоянные цитаты и отклики на них («Бедные люди», «Двойник», письма к жене). В конце книги спор с неизвестно откуда взявшимся писателем напоминает разговор Ивана Карамазова с чертом. Эти переклички иллюзорны, связаны со снами и воспоминаниями, в которые время от времени проваливается героиня, отключаясь от времени. «Послушайте: Билли Пилигрим отключился от времени» – подобно герою Воннегута, она путешествует по своей жизни, припоминая людей, которые жизнь наполняли, или описывая тех, которые наполняют ее сейчас.
Люди в мире «Пилюль счастья» кошмарны. Здесь описывается усредненность быта и милых привычек и приличий, на которых покоится общество, шведский круг: все эти приемы, вечеринки, званые обеды. Конечно, все не так жутко, как «умело пущенный» вечер в салоне Анны Павловны Шерер, – но в общем близко к этому. Люди таким рассказом о повседневности отдаляются; читателю демонстрируется неприятная работа иронии, компенсирующей лицемерие. Русская еврейка, эмигрантка, живущая по общественным нормам новой страны обитания, остается наедине с собой. И несовпадение себя-внутренней с людьми, которым тянет подбирать аналоги среди классической галереи убогости (Акакий Акакиевич, Макар Девушкин и т.д.), но с которыми приходится держать себя согласно этикету, преследует героиню романа не только в эмиграции – оно тяготит ее всю жизнь. Там были мерзкие жены номенклатурных чиновников – здесь до зевоты приличные жены шведских издателей. Но ладно бы дело было только в этих внешних людях – спасения нет и среди близких. Близкие они только формально. Даже о своем втором муже, «викинге», сентиментальном и непрактичном, все вспоминающем свою первую жену, Нина Тихвина пишет с отчуждением. Что уж говорить о первом, истеричном и бездушном советском карьеристе, от жизни с которым остались только воспоминания о его пошлости и подробности быта. Эти язвительно описанные люди настолько неинтересны и необязательны, что временами роман производит впечатление, будто мир до краев полон скукой и формальностью. Это особенность не мира, а мировидения героини – или, по крайней мере, невезения. Тем не менее эти унылые герои, конформисты, пьяницы, чопорники, выведены так, что вызывают своего рода моральную ипохондрию. Человек, который героине в принципе симпатичен – правозащитница Паулина, всю жизнь помогающая русским диссидентам, – тоже описан с иронией: спасая «диссидента», оказавшегося проходимцем и бывшим уголовником, Паулина умудряется выйти за него замуж, и он превращает ее существование в пытку.
На этом персонаже стоит остановиться подробнее. Пьяница и скандалист Пятиведерников (фамилия его предков некогда была Семиведерниковы – это взято из известного анекдота о Пятижопкине). Его речи явно пародируют «достоевский» психологический дискурс подпольного обличителя; в одном из эпизодов он подсовывает героине синопсис романа собственного сочинения (естественно, приписываемый несуществующему другу), и этот вставной кусок характеризует безумная, выморочная сбивчивость и претензия на величие при ничтожестве содержания. Для романа этот персонаж – трикстер, для героини этот человек – бес, воплощающий порочную идею двойничества: он разделяется постоянно, и демонстрацию тоски раздвоения предуготовляют многочисленные отсылки к Достоевскому.
И вот помимо всех этих людей есть, оказывается, другие. Замечательные – не как в «ЖЗЛ», а просто замечательные. Но где они? В прошлом. Это мать, сумевшая сберечь дочь во время блокады Ленинграда и ведущая блокадный дневник (роман Шенбрунн частично на таком дневнике основан; блокадные метафоры прорываются в текст: «устраивать Бадаевский склад на дому»). Это мачеха, спасшая Нину Тихвину от сиротской участи после смерти родителей. Когда героиня вспоминает студенческие походы, до нее доходит, что в болотах, по которым проходили маршруты, лежат кости ее расстрелянных нацистами родственников – о них она почти ничего не знает, но из-за них тоскует.
Переплетение в романе планов и сюжетных линий, прошлого и настоящего напоминает «Вчерашнюю вечность» Бориса Хазанова. Ближе к финалу временное напластование давно прошедшего на настоящее плавно сменяется смешением, диффузией.
Большая цитата, но без нее обойтись нельзя:
Плохо, что я не сразу отметила эту странность: одновременное свое пребывание в двух параллельных мирах. Не знаю, сумею ли я объяснить. Представьте себе, что вы стоите перед широкой стеклянной витриной и наблюдаете происходящее внутри здания: люди ходят по комнате, разговаривают о чем-то, совершают какие-то действия, зеркало на стене усиливает свет торшера, открываются и закрываются двери в соседние помещения. Но одновременно вы видите, как по поверхности той же витрины проплывают отражения уличных событий: и здесь тоже жизнь – передвигаются люди, проплывают автомобили, мигают светофоры, дети играют в классики, кто-то подзывает собаку. Во всем этом нет ничего ужасного до тех пор, пока вы способны различить, какие картины принадлежат улице, а какие пространству за стеклом. Но в тот момент, когда предметы и люди с обеих сторон начинают путаться, меняться местами, расслаиваться или, наоборот, слипаться друг с другом, складываться в каких-то невозможных монстров, когда автомобили, визжа тормозами, с яростью налетают на мебель, сбивают и давят сидящих в креслах, вам становится жутко, хочется завопить от боли и отвращения, зажмуриться, не видеть и не слышать этого безобразного светопреставления, бежать, бежать...
Конец романа – сползание в безумие, искусно, почти математически и притом до ужаса убедительно выстроенное; попытки самоконтроля и разумного поведения даже в тех случаях, когда мерещатся давно умершие люди, продолжающие прерванный разговор. Роль снов здесь крайне важна (один из самых светлых снов – о жизни в Израиле); те самые пилюли счастья – это «заветные белые таблеточки» снотворного, которые позволяют провалиться, забыть морок. Но и у этих таблеточек есть двойники – лекарства, которые пьет муж Нины Мартин.
Теперь пора задать один вопрос. Как и для кого возникает этот монолог, как он проговаривается, как соотносится с «современной» фабулой? С одной стороны, очевидно, что это монолог внутренний, «для себя». «Гусиная физиономия Агнес», «прижимистость мужа»: все это не может писаться для других. Но откуда тогда берутся такие выражения, как «между нами»? Предполагается ли какой-то интимный адресат? Ведь это же не бес-соблазнитель, русский псевдо-Хемингуэй, считающий, что в книге – заметим, он знает, что пишется книга! – нет места «мерзкому прошлому», «серым и непривлекательным будням нашей отечественной истории».
Может быть (и этот ответ тоже кажется очевидным), адресат – сама пищущая/говорящая, читающая/слушающая свой текст? Светлана Шенбрунн указывает на границу между умственным расстройством, мотивы которого в романе недвусмысленно заявлены, и естественным, неизбывным двойничеством. Появляется ли у нас двойник, когда мы что-то произносим? Становимся ли мы дивидами?
Ответ Шенбрунн – да. Сознание же героини этому ответу сопротивляется. Вот почему ведущийся внутри своего монолога диалог с изобретателем полифонического романа ей так важно завершить – утрированной, передергивающей, но «своей правотой», своим последним словом.
***
Как и «Пилюли счастья», роман Маргариты Хемлин «Клоцвог» вышел не только что – уже в этом году появилась новая книга, «Крайний». Но, как пишет Андрей Немзер, «Клоцвог» стал «литературным фактом» сейчас, после попадания в шорт-лист «Русского Букера».
Клоцвог – девичья фамилия героини романа. За свою жизнь она сменила несколько фамилий, и ни одна из них к ней не прикипела. Так она и остается для нас Майей Клоцвог, рассказывающей о своей жизни.
Это роман с очень увлекательным сюжетом, который разворачивается линейно (в отличие от «Пилюль счастья», где историю жизни героини нужно восстанавливать из разрозненно сообщаемых сведений). Форму исповедального «я»-повествования Хемлин заимствует из классических романов о женщинах-авантюристках – в первую очередь вспоминается Даниэль Дефо. Подобно его героиням, Майя Клоцвог указывает (в свое оправдание) на то, что действует сообразно обстоятельствам. Сообразно обстоятельствам, не по своему злому умыслу она отказывается от близких; сообразно обстоятельствам для нее то сын, то дочь становятся чужими. При этом и цинизм, и авантюризм остаются без рефлексии, но самооправдание и стремление разделить с кем-то вину, если она есть, присутствуют всегда.
Клоцвог гораздо больше, чем героиня «Пилюль счастья», думает и говорит о еврействе. Для нее это неудобство, препятствие на пути к чаемой хорошей жизни; многие вещи она делает, чтобы его обойти. Ее поведение лежит в основе душевной катастрофы как ее сына, так и дочери, которым приходится когда-то столкнуться с тем фактом, что они евреи; если для сына эта проблема – привходящая, но не определяющая, то психикой дочери она завладевает, в результате чего у маленькой еврейской девочки возникает болезненная ненависть к евреям, игры с подругой «против евреев» (при том что она вряд ли понимает, что означает слово «евреи»). И здесь мать, то и дело говорящая о своем педагогическом опыте, ничего не может сделать – в первую очередь потому, что эта тема болезненна для нее самой, несмотря даже на то «давно выношенное в сердце» объяснение, которое она высказывает своему сыну. «Да, Мишенька, я еврейка. Некоторые люди считают, что это стыдно. Чтобы обидеть, они могут называть меня жидовкой. Но мне на это слово плевать. Пле-вать». Эти слова и на фоне всей речи Клоцвог выглядят достойно, но нужно помнить, что она думает, когда ее сын получает паспорт и записывается украинцем: «А Мишенька, оказывается, очень даже размышлял».
Романом «Клоцвог» можно было бы проиллюстрировать антиномию: как язык определяет сознание, так и наоборот (антиномия заложена уже в самом тезисе «x определяет y» при соблюдении определенных грамматических условий). Язык монолога – главное в романе Хемлин, его операционная система. Все, что нужно для анализа, содержится здесь. Это жутковатая смесь канцелярита и анекдотического русско-еврейского говорка, постоянно перебиваемая паразитическим выражением «но дело не в этом». Иногда здесь прорывается что-то человеческое: «Я во время эвакуации слышала в госпитале, как стонали раненые без рук, без ног, без языка. От всего человека остается только стон. Ой!» Но чаще: «Теснота жизни, скученность, стремление поделиться своими знаниями приводили к тому, что о физиологической стороне взаимодействия юноши и девушки мы узнавали из разных, порой не заслуживающих доверия источников». Или: «Сказывался возраст мамы, тем более при отсутствии крепкого мужского плеча, каким являлся Гиля».
У языка Майи Клоцвог есть несколько литературных прообразов, главный из которых – язык героев Зощенко. Есть и другие нотки – Платонов, Бабель, Замятин… Героиня искренне стремится к тому, чтобы ее речь выглядела правильной, конвенциональной. Это остро чувствуется, когда она оправдывает свои действия, например обращение с детьми. Майя Клоцвог в самом начале книги называет себя учителем: «По роду деятельности – учительница математики. На пенсии, конечно. Но не считаю, что я учительница бывшая. Как и ряд других профессий, профессия учителя не бывает в прошедшем времени. Сознание этого меня сильно поддерживает». Педагогическая деятельность Клоцвог в рамках романа длится несколько месяцев, когда она преподает математику умственно отсталым детям. Это не мешает ей то и дело апеллировать к педагогике: «Я просто поговорила с Эллочкой откровенно, как мать с дочерью и как женщина с будущей женщиной. Есть такой известный педагогический прием». «Знаю как педагог: иногда надо не реагировать на истерику, а дать пощечину». «Это была детская провокация, что неоднократно описано в методической литературе». Методическая литература, писаное слово, становится подспорьем, за которое можно ухватиться. Неслучайно другим психологическим спасением для героини оказывается профессия машинистки: «Вся моя жизнь сосредоточилась на буквах и цифрах».
На самом деле в этом языке есть микросбои, отступления в сторону человеческого. В его теле кажутся инородными такие фразы, как: «И ни одного знака препинания. Ни одного» (о прощальной записке). Подводя итог одному из эпизодов, Клоцвог вдруг пишет: «Да. Голоса у меня нет. И слуха нет. И ничего у меня нет». Эти сбои учащаются к концу романа. И окончательным, катастрофическим прорывом предстает финальная прямая речь, после которой остается только написать, сжав в одну фразу несколько десятилетий: «Дальше в моей жизни не произошло ничего».
Со временем рассказ Клоцвог обращается вольно, подчиняя его сюжетным линиям: «Так прошел год. Из Остра – ничего. Потом еще год. Из Остра – ни строчки». Одновременно с этим она проявляет чудеса мнемоники, когда, описывая важнейшие события в ее жизни, сообщает еще и мельчайшие бытовые подробности: какая на ней была обувь и что титановые набойки на обувь в Москве ставили только в двух местах; какой рисунок был на полотенцах, которые она шла дарить свекрови, когда застала мужа с другой женщиной… Такие подробности могут запоминаться как составные части яркого момента, но насколько уместно сообщение о них? Подобное смешивание «рядов» в монологе встречается сплошь и рядом и иллюстрирует особенности сознания героини.
Но в этом монологе есть одна неясность, которую нельзя списать на его внутреннее устройство, хотя связана она как раз с внутренним устройством. И эта неясность сродни той, которая возникает при чтении первого романа.
Непонятно, как пишется текст, – мы ведь принимаем, что его производит Майя Клоцвог. Почему он изначально не опосредован дальнейшими событиями? Ведь Клоцвог – не профессиональный литератор, который хочет рассказать историю без спойлеров, а получается у нее именно так, и от этого он приобретает странное свойство: хладнокровие. Такую претензию невозможно предъявить к «Роксане», где история опосредована тем, что написана хоть и от первого лица, но изысканным языком Дефо; но ее можно предъявить к роману «Клоцвог», о языке которого этого сказать нельзя.
Читать!
Светлана Шенбрунн. Пилюли счастья. М.: Текст, Книжники, 2010
Маргарита Хемлин. Клоцвог. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2009
КомментарииВсего:1
Комментарии
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 39041380
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 10554629
- 3. Норильск. Май 1307985
- 4. ЖП и крепостное право 1122780
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 911204
- 6. Не может прожить без ирисок 863265
- 7. Закоротило 843563
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 804240
- 9. Коблы и малолетки 776590
- 10. «Роботы» против Daft Punk 754863
- 11. Затворник. Но пятипалый 530166
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 457745


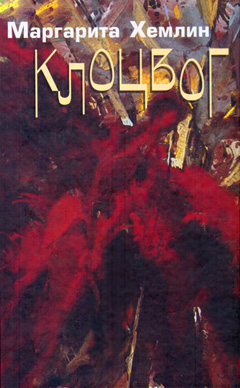
То есть в очередной раз убедился в том, что основная проблема усреднённости современной прозы, поэзии и критики - усреднённость личностей авторов, мелкомасштабность их развития.
http://nandzed.livejournal.com/286164.html