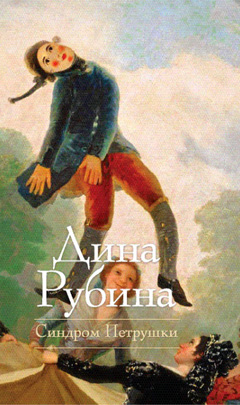Автор решил сыграть в другую, куда более сложную игру, и это вовсе не один какой-то роман, пусть даже и о любви.
«Синдром Петрушки» Дины Рубиной – большая книга, считает РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН. Если большой назвать книгу, которая оставляет в памяти больше своего содержания

Фрагмент обложки книги Дины Рубиной «Синдром Петрушки»
Читать!
Тогда так: на первый взгляд это роман о любви – той самой, «страстной, единоличной, единственной», испепеляющей. На второй взгляд это тоже роман о любви – о том самом тютчевском «роковом поединке» двух неразрывно связанных душ. И на третий взгляд… но нет, на третий взгляд уже, пожалуй, начинаешь понимать, что автор решил сыграть с тобой в другую, куда более сложную игру, и это вовсе не один какой-то роман, пусть даже и о любви. Догадка вскоре подтверждается, потому что в «Синдроме Петрушки» обнаруживаются сразу три соединенных вместе романа, притом весьма разновидных жанров. Один из них – тот самый, «о любви», – в действительности оборачивается тревожной психологической драмой, сильной, достоверной и убедительной историей непростых человеческих отношений, прослеженных чуть ли не от детской колыбели и до седых волос. Второй – семейный детектив а-ля Диккенс, но более лихой и «закрученный», ибо разгадка семейной тайны складывается здесь из множества разбросанных повсюду и почти неприметных – как фигурки в вышеупомянутом храме – намеков. Сама же тайна вдобавок овеяна неким легким дуновением мистики и рока, ворожбы и заклятий, сразу и не поймешь, с прищуром или без оного. И, наконец, третий роман – о куклах и кукольниках, экзотичный, завораживающий и очень многомерный, очень непростой. Всё вместе не просто интересная книга, это само собой, но книга, производящая то воздействие, которого так жаждут авторы и их читатели: она волнует и увлекает. Нас волнует духовно напряженная драма ситуаций и характеров, увлекает интеллектуальная страстность и глубина.
Главная сложность этой романной конструкции в том, что три ее плана, оставаясь самостоятельными, в то же время непрерывно просвечивают друг сквозь друга, переплетаются друг с другом и потому «удваивают», иногда даже «утраивают» свои возможные прочтения. Так, «кукольный» пласт романа поначалу кажется неким «театральным задником», на фоне которого развертывается детективный сюжет, но затем сам этот сюжет в свою очередь возвращает нас к куклам, потому что в его основе оказывается загадка «родового проклятия» – рождения детей, изуродованных неизлечимой болезнью, именуемой «синдромом Смеющейся Куклы» (который называется еще «синдромом Петрушки»). Распутывание же этой загадки, составляющее фабулу детективного «романа в романе», складывается, как пазл, из рассказов поочередно появляющихся персонажей, которые на фоне «театрального задника» вдруг начинают казаться куклами, поочередно выходящими на сцену некоего кукольного театра, чтобы рассказать застывшим в изумлении Пьеро, Мальвине и Арлекину о прошлом, в которое уходят корни их бед. И тогда уже двоиться начинает само это прошлое: сквозь вполне реальные, зримо и ярко выписанные (и вполне современные) польско-еврейский Львов, сахалинский Томари, заснеженную Прагу и плывущий в знойном мареве Иерусалим (не говоря уже о Самаре и прочих мелочах), где вяжутся, плетутся и расплетаются сладостно-волнующие сети семейной тайны, – постепенно проступает сказочная ткань древних преданий, истории старинных кукол и их создателей да мрачные тайны мстительных заклятий, которым место разве что именно в сказочной и страшной кукольной пьесе. И под конец уже кажется, что и судьбы реальных героев в общем духе сквозного «двойничества» начинают повторять судьбы персонажей этой сказочной истории; и возникает странное ощущение, будто весь этот «роман в романе», оставаясь вполне реальным, в то же время разыгрывается на сцене какого-то призрачного кукольного театра.
Но у книги есть и вторая пара «двойников», потому что второй ее «роман в романе» – напомним, о «тяжелой, трудной, единственной» любви – тоже неразрывно переплетен с ее «кукольным» пластом. Да иначе и быть не могло, ибо герой его молодой кукольник, и мало того, что кукольник, так он, еще с детства полюбивший рыжеволосую девчушку, посвятивший ей всю жизнь, заменивший отца и мать, растивший ее, воспитывавший, спасавший и оберегавший, ставший, в сущности, ее создателем, – потом, подобно многим творцам, захотел, чтобы она была его куклой. Причем его желание, заметим, совершенно целомудренно, оно не имеет ничего общего ни с эротическим, ни тем более с житейским подчинением: гениальный кукольник, он хочет сделать из нее свою «предельную», можно сказать, онтологическую куклу, в которой соединились бы рожденное и созданное, живое и мертвое, своевольное и послушное, реализованный миф о Галатее с реализованным мифом о Големе. Это, понятно, не удается, и тогда он создает вместо нее настоящую (как ни иронически этой звучит) и, под стать себе, гениальную куклу. Впрочем, и это не может помочь делу, о чем свидетельствует его собственное признание.
…После того как я сделал Эллис, мне первое время снился мучительный сон: что… она ожила и говорит: «Ты меня сотворил, ты вдохнул в меня жизнь, а теперь я хочу быть твоей женой». И я, во сне обуянный ужасом какой-то непреходящей силы, что-то лепечу ей в ответ – мол, прости, у меня уже есть жена… И тут появляется печальная Лиза… И я плачу, громко, безутешно, как ребенок, протягиваю к обеим руки и кричу: – Лиза! Где ты, Лиза?! «Это я твоя жена!» – говорит одна, а другая – «Нет, я!»… Во сне это настоящая трагедия.
В жизни, добавим, тоже, особенно если ты по профессии, по призванию и по высшему замыслу кукольник. Потому что настоящая – и тайная – беда гениального Пети (так зовут героя книги) не в том, что он мечется между живой женой и любимой куклой – или наоборот, если угодно, – а в том, что у него свой «синдром Петрушки»: он тоже с детства и неизлечимо болен, только болен куклами. Он непрерывно творит кукол и, как положено демиургу, он же вдыхает в них душу живую. Вот как это делается.
По мере того как его руки – правая на ваге, как наездник в седле, левая веером разобранная, будто по струнам арфы, – начали едва заметно двигаться, посылая кукле легчайшие сигналы – так мать осторожно будит ребенка, легонько дуя на лоб, чтобы не испугался, – … в куклу стала вкрадчиво проникать жизнь: дернулась, как от боли, рука… голова откинулась и повела глазами, меняя туповато-мрачное выражение лица на страдающее; неуверенно и устало шаркнули деревянные башмаки… В этом было что-то неестественное, страшноватое – точно мертвец оживал. И с каждой секундой жизнь крепла и уверенно разбегалась по деревянному телу куклы. Вдруг что-то произошло, – неизвестно как, неуловимо, непонятно: минуту назад безучастно обмякшая в его руках марионетка вдруг встрепенулась, очнулась и стала человеком. Доктор Фаустус поднял голову, оглядывая комнату с выражением горькой задумчивости в лице, и заговорил медленным густым басом, едва кивая в такт собственным мыслям…
Куклы здесь не просто «как живые» – они на равных с людьми, они такие же герои книги, и я неслучайно назвал ее кукольный пласт отдельным «романом в романе» – он необыкновенно увлекателен, потому что открывает нам совершенно новый, загадочно-экзотичный и даже чуть страшноватый «кукольный мир», и открывает его с щедрым знанием и тонким проникновением. И в то же время весь дышит таким вдохновением и такой страстью, что нельзя не понять, что, в сущности, автор здесь пишет о себе, обо всем своем «цехе». То есть о творчестве вообще, о его благословении и его проклятии, о его двуликой – трагической и ироничной – природе. Что, собственно, такое куклы, которых водит кукольник? Что такое герои, о которых пишет писатель? Его марионетки или живые создания? Кукловод он, пусть гениальный, или Творцу подобен? Неслучайно ведь в эпиграфе к книге рассказывается о черной зависти Симона-Мага, понудившей его сотворить куклу, превосходящую творение Создателя: тот создал Адама из глины, а Симон-Маг – мальчика из воздуха. Об этом мальчике вспоминает в конце книги и герой, когда произносит удивительные слова:
Бывают минуты, когда я чувствую себя именно тем мальчиком, созданным из воздуха и «уплотненным в плоть», душу которого Создатель или Дьявол – кто-то из них двоих – взял к себе на службу. А вот к кому из них я взят на службу, в чем этой моей службы смысл и, главное – чья я собственность, этого я не знаю…
Человек Творящий не знает, у кого он на службе. Он знает лишь, что пожизненно приговорен, – жизнь реальная и «кукольная» для него двоятся, и порой он с трудом различает их. В одинокие ночные часы вдохновений кукольная жизнь вымышленных созданий для него порой реальней «настоящей» жизни. В этой высокой болезни – его мука, но и блаженство. Эти два слова, пожалуй, точнее всего передают драму героев книги. Но если вдуматься, книга эта не только о творчестве. Она и о жизни. В самом деле, о ком в ней речь – о людях или о куклах? О людях как о подобии кукол или о куклах как о подобии людей? Ведь, в конце концов, и тех и других Кто-то водит на ниточках. Но что в таком случае есть сама книга: попытка всерьез рассказать о жизни, как она есть, или кукольная история, уж-ж-жасно страшный рассказ про древние заклятья, ворожбу и амулеты, про злых и добрых волшебников, про злого Карабаса, который сгубил двух девочек и покусился на красавицу Мальвину, но храбрый Пьеро вкупе с добрым доктором Буратино встали на ее защиту и победили проклятого Карабаса, а потом добыли и принесли Мальвине великий амулет, снимающий древнее проклятие. А когда все получили по заслугам и все кончилось уж-ж-жасно хорошо, кукольной сказке пришел счастливый конец и все куклы отправились спать в коробки. Но тогда почему печальный кукольник, этот добрый, замечательный Пьеро, продолжает танцевать на заснеженном Карловом мосту, вспоминая свою Эллис? Это тоже по спектаклю – или уже в «настоящей» жизни? Где граница?
Читать!
Впрочем, ее можно читать и беспечально.
Дина Рубина. Синдром Петрушки. М.: ЭКСМО, 2010.
КомментарииВсего:1
Комментарии
-
Уважаю творчество Рубиной. Кстати, в пятницу 15 октября в Новом Книжном на Сухаревской будет презентация "Синдрома Петрушки". Начало в 18.00. Вход свободный. Организаторы обещают еще и подарки. Лично я обязательно пойду за автографом!
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 35449486
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9018880
- 3. Норильск. Май 1305163
- 4. ЖП и крепостное право 1121832
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 910467
- 6. Не может прожить без ирисок 856889
- 7. Закоротило 842293
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 802051
- 9. Коблы и малолетки 774980
- 10. «Роботы» против Daft Punk 662921
- 11. Затворник. Но пятипалый 525791
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 454553