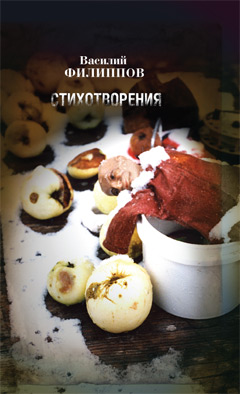Случай Филиппова оказался залогом того, что ленинградский литературный андеграунд состоялся как целостное явление
Биография Василия Филиппова поражает: действительно, перед нами поэт, проведший большую часть жизни в психиатрической лечебнице, едва не совершивший перед этим в помутненном состоянииЧитать!
Конечно, стихи Филиппова обладают всеми признаками наивного письма: здесь и избыточная каталогизация повседневности (встречи со знакомыми, ежедневная рутина и т.п.), обязательное совпадение границ строки с фразы, внезапно возникающая и так же внезапно пропадающая неточная рифма и т.д. Все это есть и у некоторых других поэтов, чья манера письма по разным причинам оказалась востребована «большой литературой» (Евгений Карасев, Зинаида Быкова и др.). Подобную художественную наивность осложняет и болезнь поэта, не в последнюю очередь благодаря которой Филиппов стал восприниматься чуть ли не как ожившее воплощение ars poetica, парадоксально совмещая эту роль с ролью летописца своей литературной эпохи.
Действительно, на страницах этой и предыдущих книг Филиппова можно встретить весь цвет ленинградского андеграунда конца семидесятых — первой половины восьмидесятых: Елену Шварц и Виктора Кривулина (кстати, авторитетного ценителя поэзии Филиппова), Александра Миронова и Бориса Иванова. Филиппов, родившийся в 1955 году, был самым молодым в этом литературном поколении, но именно ему удалось, быть может, лучше всех почувствовать дух эпохи, запечатлеть его в своих не знающих избирательности и искусственности стихотворениях.
Однако несмотря на то, что Филиппов биографически близок к названному кругу, он всегда смотрит на него как будто со стороны. Такая же отстраненность проявляется и по отношению ко всем вещам, условно говоря, реального мира: все они обесцвечены, затемнены, а возникающие на этом фоне галлюцинаторные картины, наоборот, отличаются почти ощутимой яркостью и красочностью. Эта галлюцинаторная логика вторгается в реальность постепенно, чуть смещая восприятие каждого отдельного события или вещи, чтобы потом обрушить всю конструкцию повседневного, увести поэта (а за ним и читателя) в сторону совсем иных причинно-следственных связей:
Из сердцевин стволов в окнах рождаются силуэты,
Косы опускаются в колодцы платьев.
Ступни ног оставляют следы-воду и просо.
Руки, сломанные в локтевом суставе, взбивают прическу ресниц.
Глаза касаются друг друга плавниками
И уходят в водоросли ног,
В чешую русалочьего хвоста.
В окне струится речка,
На дне которой вперемежку лежат камни и плечи.
Внешне это похоже на механизм возникновения бреда, ведь наблюдатель почти не в состоянии уловить тот (пугающий) момент, когда связная речь преображается в лингвистическую фантасмагорию: ясно, что между привычной логикой и логикой бреда есть граница, но в точности указать, где именно она пролегает, едва ли возможно. В то же время Филиппов не так прост, чтобы эта, в сущности, элементарная модель описания работала в его случае: ему почти всегда удается балансировать между сном и явью, а галлюцинаторная виртуальность почти никогда не захватывает его целиком — видно, что он в куда большей степени поэт (пусть и наивный), а не творящий безумец.
Не раз отмечалось (например, тем же Кривулиным), что зрительные впечатления в этих психоделических картинах преобладают, более того, все остальные каналы восприятия словно обрублены: поэт (а его нельзя с уверенностью отделить от героя этих стихотворений) не чувствует вкуса, запаха, не замечает тактильных ощущений, но полностью захвачен картинами мира, раскалывающегося на куски и уходящего из-под ног, готового сверзиться в апокалиптический кошмар. То, что можно выудить из этих стихотворений о буднях поэта, также ничуть не обнадеживает: нейролептическое бессилие (со значимого в этом контексте глагола «лежу» начинается довольно значительное количество филипповских стихотворений), осколки социальных отношений — телефонные разговоры с постоянной героиней Филиппова Асей Львовной Майзель или повседневные заботы приехавшей из Уральска бабушки — все это мы видим ясно, даже слишком ясно, но именно на этом фоне возникает галлюциногенная дева, которая, питаясь силой поэтической традиции, манит поэта в залетейскую страну:
Ночь. Смотрю в окно.
Кажется, я умер давно.
Тело дышит под черною сотнею окон
Одиноко.
Как давно я встречался с Девой,
Она вела меня к заливу-расстрелу.
Там, у залива, расстреливали эсеров в 905-м году,
А теперь там тростник гнется.
Пусто на плацу.
Император Павел смеется.
Эта дева в конечном счете родственна гейневской Лорелее, но и она наравне с прочими героями Филиппова оказывается элементом огромного психоделического коллажа, готового поглотить всё (и «эсеров в 905-м году», и императора Павла), лишь бы оттянуть окончательный распад окружающей действительности, постоянно подстерегающий поэта. Но в процессе этого на первый взгляд случайного столкновения разнородных элементов рождаются удивительные контекстуальные совмещения, напоминающие лучшие опыты раннего сюрреализма:
Война окончилась в мае.
Военные немецкие знамена друг друга обнимали
На Красной площади под небом Италии.
А мы еще в утробах спали.
Потом мы встали
Деревьями Астарты,
И наступило детство-завтра.
И это тот подлинный сюрреализм Бретона и Супо, уводящий читателя путями сновидений и вольных ассоциаций, скрывающих мучительные метаморфозы сознания.
Тем самым в отечественной поэзии Филиппов занимает, в сущности, довольно странное место: он оказывается своего рода представителем поэтического безумия как такового, отвечает на многократно высказанный вопрос — возможно ли творчество за гранью психоза. И отвечает весьма своеобразно, ведь подавляющая часть его стихотворений относится к трем годам ремиссии, и хотя известны стихи Филиппова, написанные позже, в конце восьмидесятых — начале девяностых, но этих стихов единицы (возможно, по причинам чисто фармакологического характера).
Один из этих поздних текстов (в данную книгу не попавший) подводит своего рода черту под творчеством Филиппова восьмидесятых:
Я забыл родных
И погиб мой стих
Запятых <…> Радостно мне
Хоть будущего нет
В тюрьме стиха
Посох и сума
Дома
Дыма.
Выход из психоза через стихи не удался (как в предыдущем поэтическом эоне не удался он, например, Борису Слуцкому, оставшемуся наедине с черной меланхолией): поэт все равно оказался заключен в неподвижную «тюрьму стиха», находясь в которой можно было фиксировать повседневность (пусть даже галлюцинаторную), но нельзя было убежать от наступающей болезни, подчиняющей себе окружающую действительность.
И в то же время случай Филиппова оказался в некотором смысле залогом того, что ленинградский литературный андеграунд состоялся как целостное явление: для этой среды поэт сыграл роль Хлебникова, вернее, мифического Хлебникова русских футуристов, чей образ еще не усложнили позднейшие интерпретаторы — гениального безумца, сосредоточившего в себе всю неустроенность эпохи, но получившего взамен способность высказывать конечные, не подлежащие обжалованию истины. Кажется, следствием подобного восприятия было и присуждение поэту в 2001 году Премии Андрея Белого, отметившей вклад его стихов пятнадцатилетней на тот момент давности в формирование «канона» ленинградского андеграунда, и неуклонно растущий на протяжении всех двухтысячных интерес к этой поэзии, вылившийся, среди прочего, в издание рецензируемого тома.
Читать!
Филиппов В. Стихотворения (1984—1986) / Составители К. Козырев и Б. Останин. — М.: Новое литературное обозрение, 2011
КомментарииВсего:1
Комментарии
-
спасиб за рецу! приятно слышать что Книги издаются, значит и Читатели на них найдутся!
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3438062
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2338324
- 3. Норильск. Май 1268299
- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897611
- 5. Закоротило 822016
- 6. Не может прожить без ирисок 781703
- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758050
- 8. Коблы и малолетки 740665
- 9. Затворник. Но пятипалый 470782
- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402775
- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370270
- 12. Винтаж на Болотной 343160