Просмотров: 30430
Искусство будет оставаться левым или его не будет вообще
ДМИТРИЙ ВИЛЕНСКИЙ отвечает Анатолию Ульянову, который больше не верит в потенциал левого искусства
Дмитрий Виленский (р. 1964), художник, член группы «Что делать?» и редактор одноименной газеты www.chtodelat.org.Читать!
К тому же есть полное ощущение, что текст опоздал этак лет на двадцать — для людей за сорок он выглядит как репринт какого-то отпечатанного на машинке под копирку памфлета, приветствовавшего первого западного техно-гуру Westbam в 1989 году на рейве в сквоте на Фонтанке. Westbam явился нам в точности, как в описании Анатолия: «С его пьянящими датчиками и мониторами… как симбиоз человека и машины — появление творящего киборга, сущности электродемиургической» — то есть можно констатировать клишированно- экзальтированную апелляцию к образу диджея конца восьмидесятых годов прошлого века. Может быть, все дело в специфическом, хорошо описанном социологами эффекте поколенческого возвращения. Но может быть и что-то новое — оставим анализ социопсихологам, для нас есть в тексте определенный вызов, и это уже вызов нового времени.
Если отбросить всю романтическую лабуду, то текст Ульянова ставит ряд вопросов, и вопросов вполне вменяемых и правомерных. Главное — это то, что в нем зафиксировано определенное разочарование в левом проекте у ищущей себя молодежи, ясно понимающей, что нужны и критика, и бунт, но не понимающей, откуда начать и на что его направить. Очевидно, что за этим разочарованием стоят конкретные материальные причины. Стоит проанализировать прежде всего некоторый сет типических утверждений:
— «революционный вектор исчерпан»;
— «левое абсолютно беспомощно при столкновении с метафизическими вопросами бытия»;
— «критическое искусство — это ретроградные постэффекты»;
— «левый язык давно уже стерилизован алхимиками массового рынка».
Так ли это?
Мне кажется, что автор пытается отрефлексировать временное поражение левых, которое является объективным фактом политической и социальной жизни, но его заносит в еще более дремучий тупик противоречий — что может быть сегодня более стерилизовано рынком, чем очередной извод «техно-утопизма» и вера «в торжество эволюции, коснувшейся постчеловеческого порога»?
Давайте посмотрим, с каких позиций автор предлагает нам выход из сложившейся ситуации, признав, что существующий кризис есть, собственно, не просто кризис левого, революционного сознания — он гораздо шире. Анатолий предлагает нам довольно традиционный местный ответ, замешенный, с одной стороны, на подсознательном страхе и отторжении западных, материалистических моделей познания, с другой стороны, на слепом преклонении перед фетишизированными технологиями, без понимания того простого факта, что их столь очаровательное для него развитие неотделимо от развития социального и политического. И все эти «пьянящие датчики и мониторы» есть вполне рациональный продукт того же самого просвещения и западного рационализма.
Автор во многом повторяет общие задворки медиатеории в том виде, как они формировались в момент начала дискурса new media (1993—1995), перефразирует «критичным делает не сообщение, а именно средство» Маршалла Мак-Люэна — и отказывается понять простую для любого зрелого художника вещь: не может быть отрыва формы от содержания. Несмотря на розовый энтузиазм пионеров медиаарта, их порыв оказался с фантастической скоростью поглощен системой медиаиндустрии, рекламы и зрелища (судьба двух таких российских пионеров — Шульгина и Чернышева — у всех на виду, она уже достигла откровенной непристойности). Но симптоматично, что, наследуя романтизации достижений новых медиа, Ульянов полностью отбрасывает тот факт, что это был как раз яркий и последовательный образец именно левой романтики, направленной на трансформацию социума и политики через концепции цифрового равенства и тактических медиа. Ульянов ничего не выдумывает и предпочитает оставаться в рамках местной традиции, сформированной совместными движениями на танцполах и рейвах наших местных медиадеятелей. В его построениях явно видны черты композиции Тимура Новикова в обнимку с Дугиным, декларации из первых номеров «Лимонки» и прочие местные девиации. Все они тоже мечтали выскочить из унизительного для них разделения на правое и левое, воспарить над материальной реальностью. И неминуемо оказались в очень узнаваемом и идентифицируемом ультраправом пространстве. Автор, который грезит о том, как стать супергероем «с врезанным в мозг микрочипом», отлетающим от презренной земли недочеловеков в «мир новый новых существ» и презирающим все, что куда-то еще не отлетело, всегда будет однозначно идентифицироваться как субъект правого дискурса с явными и неизбежными протофашистскими истоками — пишу это слово здесь без всякого морального осуждения, просто как серьезный факт интеллектуальной истории апологетики неравенства.
Уже почти достигнув своего возвышенного состояния, автор рассержен тем, что вокруг некие типы (вроде меня) не готовы им восхититься, а блюдут какую-то заговорщицкую монополию левого дискурса на критику и, более того, на сопротивление и даже на экстаз и на радость бытия. Что ж, Анатолий прав — правый радикализм возможен и, к сожалению, продолжает существовать, но только в крайних формах фашистского, религиозного или националистического мракобесия — для культуры и политики эта мертвая зона по разным причинам не интересна уже давно (как минимум со времен зрелого Юнгера середины 1920-х), и ее не воскресить ни Дугину, ни нашему автору, даже в такой гибридной форме местных курьезов интеллектуальной жизни.
Автор также весьма ограниченно воспринимает наследие левой мысли и борьбы и отчасти поэтому не хочет видеть того, что и сегодня это наиболее мощный источник энергии (говоря на языке Анатолия) и потенциал человеческого освобождения. Левое наследие не исчерпывается фигурой Че Гевары и бородой Маркса — это и сюрреализм с дадаизмом, и теология освобождения, и тайный мессианизм Беньямина, и религиозный экстатизм Негри, и Yippie с их безумными ритуалами, и диалектика Брехта с Годаром, и экзистенционализм Сартра, и весь современный танец и кино, и всё-всё-всё. Просто походя сказать, что, мол, мы это всё проехали (даже не понимая толком, что же) — наивно, а вот понять, почему ЭТО будет все время актуализироваться и находить новых последователей, могущих вдохнуть в ЭТО волнующую жизнь, стоит хотя бы потому, что все остальное по сравнению с ЭТИМ просто регресс в бредни спиритического сеанса с «призраками, обитающими в оптоволоконной вселенной».
Несколько жалко Ульянова, как жалко всех тех, чье сердце не способно начать биться при звуках «Марсельезы» или «Смело, товарищи в ногу», тех, кто не испытывает волнения при чтении нового текста Негри о любви, и тех, кто не может прочувствовать всем телом щедрость находок фильмов Годара, раздаривающих невероятные вдохновляющие возможности делания искусства; всех тех, кто никогда не двигался по городу в огромной толпе разных людей, объединенных солидарностью; кто не сидел до утра в захваченных фабриках, обсуждая вопросы рабочего самоуправления, тех, кто не знает радости коллективного становления в совместной работе.
Ну да ладно, этот опыт и переживания радикально эгалитарны — то есть открыты каждому, и, может быть, однажды Ульянов их тоже сможет пережить. Но вначале стоит осознать одну простую вещь — то, что «we live in material world» (Мадонна). И это честный и волнующий факт для всякого, чей мозг не травмирован кислотной жвачкой new age.
В этом мире мы можем действовать, более того, мы можем влиять на его изменения, и, тут я соглашусь с Ульяновым, — нам нужно подлинное реальное знание и прогресс. Только в чем он будет заключаться?
Сегодня, несмотря на очевидный момент реакции (а ведь, наверное, действительно очень тяжело молодежи и студентам, и не только им, определиться в такие моменты — вот и колбасит их сильно), происходит важная и серьезная работа, подготовляющая тот момент, когда пройдет эта путаница и многие вещи обретут свой смысл для таких искренне ищущих ребят, как Ульянов.
Вопрос: где и как искать сегодня выход из сложившейся ситуации?
Мой ответ: творить = делать искусство политически.
Давайте посмотрим, как это возможно сейчас и почему это столь увлекательно.
В последнее десятилетие целому ряду художников, развивающих различные линии традиций политического искусства, удалось последовательно сформулировать ряд теоретических положений и провести множество проектов, которые позволяют говорить о возникновении нового движения в искусстве. Происходят процессы нахождения точек взаимодействия между искусством, новыми технологиями и политическими движениями, стоящими на позициях внепарламентской демократии. Эту новую волну политического искусства можно начать отсчитывать от «Документы-10» (1997), хронологически она совпадает с появлением на политическом горизонте «движения движений» (или же «множеств», в терминологии Тони Негри, заявленной в его программной книге «Империя», вышедшей в свет в 2000 году), которое в Сиэтле (1999) впервые продемонстрировало свой протестный потенциал.
Признаки становления художественного движения мы находим в том, что его участники заинтересованы в выработке общих терминов для обозначения своих практик; в том, что их осуществление строится на моделях конфронтации по отношению к внешним для движения явлениям; в существовании целого ряда разбросанных по миру мест (институций, сетевых ресурсов и т.д.), в которых эта практика и теория находит свою последовательную реализацию.
В рамках этих практик идет речь о возможностях развития традиции политического повествования — попросту говоря, умения рассказать историю о мире, о положении человека в борьбе за его трансформацию. То есть современные практики политического искусства становятся снова реалистическими. Формула сегодняшнего реалистического искусства практически полностью предсказана Брехтом в своем очень понятном и всеобъемлющем определении:
«Всегда держа перед глазами тех, кто борется за преобразование действительности, мы не должны цепляться за уже “испробованные” правила построения рассказов, почерпанных из великой литературы или же основанных на неких вечных эстетических законах. Мы не должны абстрагировать единственный правильный реализм из уже существующих состоявшихся работ. Просто имеет смысл использовать все средства, старые и новые, испытанные и неизвестные, вытекающиt из искусства и вытекающие из других источников, для того чтобы “вложить” реальность в руки людей как нечто, что должно быть ими сформировано».
Сегодня основные методы современных реалистических практик основаны на:
1) вовлеченном исследовании как способе познания мира, приводящем к созданию архивов, на основе которых происходит работа над новыми произведениями искусства;
2) негативности — не вдаваясь глубоко в теорию негативности, стоит упомянуть выражение поэта Александра Блока:
Пускай, грядущего не видя,
Дням настоящим молви: Нет.
3) учреждении (instituent practices — см. об этом здесь) — по точному замечанию Жака Рансьера, «если понятие авангарда (читай — политического искусства. — Д.В.) имеет в эстетическом режиме искусств какой-то смысл, то он находится не на стороне формальной новизны, а на стороне учреждения чувственных и материальных форм грядущей жизни». Важно отметить также, что учреждение и негативность находятся друг с другом в очень сложной и прочной диалектической взаимосвязи — невозможно учреждение без отрицания.
4) трансверсальности практик — этот важный термин Делеза означает, что политическое искусство не замыкается в рамках институций искусства. В качестве создания новых форм знания оно распространяет себя за пределы комфортного гетто искусства, постоянно проверяет свою легитимность за его пределами, находится в непосредственном обмене с жизнью.
5) фокусировке на образовательной ценности искусства.
Читать!
Ссылки
КомментарииВсего:22
Комментарии
Читать все комментарии ›
- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля
- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики
- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами
- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея
- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 35451491
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 9172587
- 3. Норильск. Май 1305784
- 4. ЖП и крепостное право 1122039
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 910607
- 6. Не может прожить без ирисок 858333
- 7. Закоротило 842531
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 802468
- 9. Коблы и малолетки 775305
- 10. «Роботы» против Daft Punk 663155
- 11. Затворник. Но пятипалый 526693
- 12. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 455204











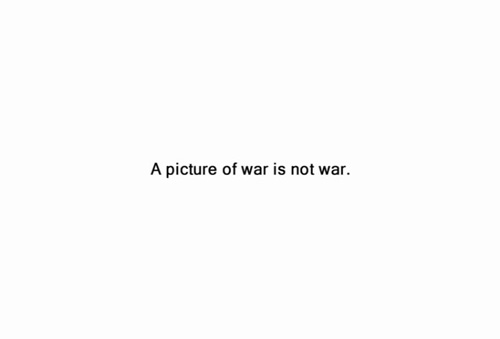

Лямбда-чпок
В прошлой колонке ( см. «Артхроника» №1 за 2010 г.) я серьезно ошибся, заявив, что «за редкими исключениями людей, особенно сильно включенных в контекст европейской художественной жизни, у нас среди писателей, художников, киношников не приняты откровенно левые взгляды». Это суждение из 90-х, когда фигуры типа Виктора Мизиано были редки. За прошедшее десятилетие степень общественной включенности в европейский контекст, в особенности среди художников и арт-критиков, резко повысилась. Тут заметны даже не отдельные фигуры с выраженными взглядами (их немного, они очень разные — Дмитрий Гутов, Максим Кантор), а общее полевение интеллигенции. Контуры левизны расплывчаты, да и сердцевина аморфная, но для вхождения в художественную элиту теперь желательно объявить себя левым.
ГРИГОРИЙ РЕВЗИН, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»
Это не значит — верить, что обобществление средств производства по модели марксовой экспроприации экспроприаторов будет способствовать гармонизации художественного процесса. Практически речь идет о том, чтобы более или менее глубоко презирать буржуазию, в особенности крупную, художественный рынок и гламуризацию. Чем глубже презираешь, тем пока лучше: собственно, границы презрения сегодня определяются только тем, что какой-нибудь представитель буржуазии обидится на тебя лично и перестанет финансировать твои затеи. Пока все выше личных обид. Если взять выступления лауреатов премии Кандинского или обсуждение церемонии в интернете, прямо диву даешься, как там все радикально. Чисто стилистически в этом повороте художественная общественность являет трогательное единство с интенциями глубоко нехудожественного населения. Последнее тоже гламурных дам полагает выдрами и мерзавками, а Рублевку — гнездом порока, вовсю ненавидит олигархов, считает буржуазию ворами и бандитами, а рынок — темной фантазией покойного Егора Гайдара. Отчасти и власть способствует распространению такой точки зрения, уповая, что благородное чиновничество будет исключено из числа объектов народной неприязни, раз уж само эту неприязнь направляет. Повторю, это весьма распространенная система взглядов, людей, ее исповедующих, и в просторечии именуемых «отморозками», великое множество. Но то, что она теперь становится модной среди художественной элиты, даже как-то экстравагантно.
Если в Европе правая гуманистическая мысль отсутствует, для нас это лишний аргумент в пользу того, чтобы начать ее производить
Нехудожественное население тем сильно отличается от художественного, что в своих чаяниях уповает на государство. И не вполне безосновательно — оно платит пенсии и зарплаты бюджетникам, которые потом изымает через тарифы естественных монополий, но это потом. Между тем у нас ведь нет никакой государственной художественной жизни. Не то чтобы институции, созданные hard- и soft- олигархами, как-то конкурировали с государственными худфондами и музеями, закупающими инсталляции и документации перформансов, предоставляющим художникам гранты и стипендии, — вовсе такого нет. Даже журналы и интернет-ресурсы, вовсю хающие гнусные проявления капитализма в искусстве, существуют на сугубо частные средства. Об этом имело бы смысл задуматься и в рассуждении об общих перспективах существования культуры, поскольку внятного ответа на вопрос, зачем они это делают, пока получить не удалось. Но именно то, что наша буржуазия заинтересовалась искусством, составило суть повестки дня прошлого десятилетия, обусловило то, что это искусство выжило и даже возродилось в сравнительно пристойном виде. Мы не Германия и не Голландия, государство у нас совсем сбросило с себя обязанности по поддержанию художественного процесса. Понятно, когда художественные деятели, опирающиеся на социальные программы государства, отстаивают левые взгляды — они укрепляют собственные бытийные позиции. Но если следовать банальным представлениям, что идеологии оформляют некоторые реалии жизни людей, то можно сказать, что в художественной сфере у нас вовсе нет никаких оснований для левой идеологии.
Остается предположить, что художественная интеллигенция порождает левые идеи, полностью наплевав на собственные жизненные реалии, и напрямую пытается выразить народную боль в занимательных и не вполне еще доступных народу формах современного искусства. Время от времени с русской интеллигенцией случаются такие казусы. Однако должен заметить, что собственно тема народной боли и чаяний пока слабо артикулирована в новом левом повороте, если брать его художественное измерение. Как бы живая неприязнь к олигархам чувствуется куда сильнее, чем забота о живых народных силах, загнивающих в Каргополе без идеалов и социальных лифтов. И в этой связи возникают все же сомнения в том, что идеалы справедливости и солидарности (неоравенства и необратства) произрастают непосредственно из нашей сельской местности. Мне кажется, естественнее их трактовать как следствие нашей всемирной отзывчивости.
Может быть, по необразованности, но я не знаю на Западе современных правых мыслителей в сфере культуры. Как-то они перевелись, и это рождает известную неловкость. Как бы приезжаешь, хочешь включиться в местный интеллектуальный контекст, а там все троцкисты с маоистами, фрейдомарксисты с феминистами, и если ты не левый, то чувствуешь себя каким-то лохом. Это и вообще неприятно, и грозит осложнениями в смысле социализации в арт-тусовке. Тут хочешь не хочешь, а всемирно отзовешься. Последние правые мыслители — это ведь послевоенное время, поразительным образом новый консерватизм и Рейгана, и Тэтчер обошлись без всякой интеллектуальной поддержки, создав своего рода поп-консерватизм, основанный на образах массовой культуры и мифологии. А уж о том, что было после них, и говорить нечего.
То есть там, вообще-то, случилась гуманитарная катастрофа. Послевоенные австрийцы — Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Оскар Моргенштерн — на 20 лет как-то убедили Европу, что свобода напрямую связана с частной собственностью, и социализм в силу специфики экономического устройства — это дорога к рабству. Интеллектуальная поддержка капитализма тем самым оказывалась поддержкой свободы, а это как-то созвучно художественному дискурсу — и деятели эпохи позднего сюрреализма и поп-арта еще могли быть вполне правыми по взглядам. Однако начиная с середины 70-х установилась другая позиция по этому вопросу: работы чикагской школы доказали нам, что развитие капитализма не так примитивно связано со свободой, как это считали австрийцы, связь эта сложная, опосредованная, в практических делах ей лучше пренебречь, и вообще лучше всего свободная экономика развивается при Пиночете. Начиная с этого момента право-либеральная традиция разошлась с гуманистическими ценностями, и с тех пор они пока не встречались. Это неприятное открытие оказало самое пагубное воздействие на гуманитарные умы. Утверждение свободы — главный и едва ли не единственно ценный общественный ресурс современного искусства — оказалось не связано с ценностями капитализма. Если добавить к этому, что командные высоты в интеллектуальном пространстве Европы заняли дети 1968 года, то, естественно, окажется, что места для правой мысли не остается в принципе.
Но у нас-то оно остается. У нас все же историческая прививка против левых идей достаточно сильна. Конечно, от 90-х гг., когда было совершенно очевидно, что человек, проповедующий любой извод коммунистической идеологии, либо очень глуп и не в состоянии сделать очевидных выводов из 70 лет бессмысленного насилия, либо подонок, оправдывающий палачей, прошло уже много времени, и острота этой дилеммы как-то снялась. Но все же это было так недавно, и последствия очарования левыми идеями столь ужасающи, что, казалось бы, мы могли бы что-то такое извлечь из этого опыта. Я бы даже сказал, что стоит переместиться в русло правой экономической мысли, и именно это могло бы рассматриваться как наше конкурентное преимущество. Мы как раз являемся редкой европейской страной, где правая позиция оправдана морально, и если в Европе правая гуманистическая мысль отсутствует, для нас это лишний аргумент в пользу того, чтобы начать ее производить.
Не тут-то было. Дело скорее развивается в левом ключе — наша мысль движется в сторону солидарности с европейскими левыми. И вот тут есть вопрос. Что это — следствие нашей провинциальности, выражающейся в неспособности осмыслить собственную ситуацию, заменяя самоосознание всемирной отзывчивостью, или следствие нашей европейскости, выражающейся в решительном нежелании мыслить в противофазе с Европой даже тогда, когда собственные обстоятельства нас к тому подталкивают. Я не знаю ответа на этот вопрос, но должен заметить, что в любом случае отказ от осмысления собственного прошлого делает левую мысль в России как-то обидно неглубокой. В детстве у меня был друг, некто Леня Герф, он учился в 57-й школе, что тогда было и даже теперь еще остается престижным. Когда он туда поступил (а было это в классе восьмом), он с упоением рассказывал, что настоящие ребята там делают так. Они засовывают палец в рот, вот так им чпокают и говорят: «Лямбда. Мы — социалисты». Почему надо чпокать и в каком смысле «лямбда», он тогда не знал, но было ясно, что принадлежать к элите значит делать «лямбду-чпок» и придерживаться социалистических взглядов. У меня такое ощущение, что вопрос с тех пор как-то не сдвинулся с этой точки. Настоящая художественная элита должна придерживаться социалистических взглядов, что значит умело производить «лямбду-чпок».
P.S. Художник А.С. Тер Оганян называет г.Виленского не иначе, как проходимец.
откуда у наших рэволюционеров такое однокоридорное понимание мира?
По мнению автора вектор развития только один и необходимо уделать противника, как будто претендующего на этот вектор.
Рэволюционерам кажется что все вокруг занимают их место,
Отсюда же вероятно их попытка увешать себя медалями всех предыдущих течений и даже сюрреалистов приплести..
Но с другой стороны становится немного понятнее, почему левые художественные практики так широко используются на западе, в сущности, для канализирования социальных элементов озабоченных чужим первенством:+)
Но есть например и такие (не очень широко рекламируемые) практики на том же западе, как соединение под одной крышей художественных и технологических факультетов, так как есть огромный опыт того, что технологии нуждаются в нестандартном осмыслении и игровой составляющей, чтобы не просто развиваться, а быть осмысленными (очеловеченными?)…
Художники становятся сталкерами в области технологий, а технологии в этом контексте не просто инструментом, но как бы овеществленным человеческим сознанием, с которым художник вступает в контакт-диалог.
самый простой пример: эксперименты художников в визуализации/графике в области кино и игр дали мощный толчок развитию обучающих программ и симуляторов в области технологий в том числе…
честное слово, это как то больше напоминает будущее, чем дебаты рабочих на захваченной фабрике, хотя никто же не отрицает, что дебаты – полезная вещь
и конечно перефразируя старинное высказывание – чье сердце не билось в молодости при звуке марсельезы у того нет сердца, но у кого оно все еще бьется сегодня при виде захваченной фабрики – у того, похоже, нет мозгов :+)