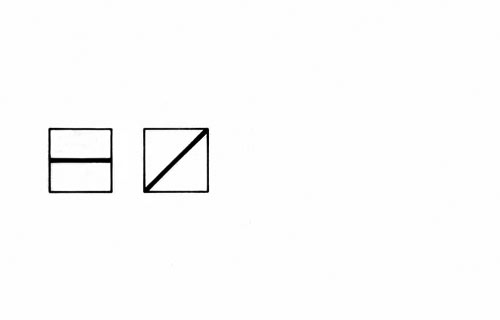Даниэле уже нет в живых, но… та история с каплями утаенной от него воды… разделяла нас незримой стеной, и я бы дорого заплатил, чтобы ее не было.
Три фрагмента последней книги автора, чьими усилиями тема Холокоста была введена в поле общественного обсуждения
Примо Леви — итальянский поэт, прозаик, поэт и переводчик, химик по образованию. Во время Второй мировой войны был членом антифашистской организации «Справедливость и свобода», действовал в составе партизанской группы Partito d’Azione, был арестован в 1943 году, одиннадцать месяцев провел в Освенциме. После освобождения 27 января 1945 года Советской армией из шестисот пятидесяти итальянских евреев в лагере смерти выжили двадцать, Леви — в их числе.Читать!
Глава I. Память об оскорблении
...В конечном счете всю недолговечную историю «Тысячелетнего рейха» можно назвать войной против памяти, оруэлловской фальсификацией памяти, подменой и даже отрицанием действительности, вплоть до окончательного бегства от нее. Во всех биографиях Гитлера, сколь ни разнились бы они в оценке этого субъекта, которого и человеком-то назвать трудно, единодушно отмечается проявившееся у него в последние годы, особенно после первой русской зимы, бегство от реальности. Он запретил, отменил для своих подданных правду, отравив их нравственность и память, но и сам, отгораживаясь от нее все больше и больше, дошел в своем бункере до паранойи. Как все игроки в азартные игры, он построил крепость из суеверной лжи, в которую, в конце концов, и сам поверил с такой же фанатичностью, какой требовал от каждого немца. Его крах был не только спасением для человеческого рода; он показал, какую цену платят те, кто поднимает руку на правду.
Впрочем, и среди жертв, куда более многочисленных, чем их палачи, заметно уклонение от правды, хотя в их случае оно бесспорно непреднамеренное. Тем, кто пережил несправедливость или оскорбление, нет нужды врать ради освобождения от чувства вины, поскольку вины на них нет (хотя нередко в силу парадоксальных причин они испытывают стыд), но это еще не значит, что их воспоминания не деформируются. Замечено, например, что многие из тех, кто воевал или прошел через тяжелый, травмирующий опыт, бессознательно фильтруют свои воспоминания: возвращаясь к ним в памяти или делая их достоянием третьих лиц, они предпочитают подробнее останавливаться на моментах передышки, отдыха, смешных или удивительных случаях, мелких подробностях и избегают мучительных для себя эпизодов. Последние, оставаясь невостребованными на дне хранилища воспоминаний, со временем тускнеют, теряют очертания. В этом смысле психологически достоверно состояние графа Уголино: ему нелегко рассказывать Данте о своей ужасной смерти; он решается на это лишь ради того, чтобы задним числом отомстить своему вечному врагу. Когда мы заявляем: «Я никогда этого не забуду», имея в виду событие, глубоко нас ранившее, но никак о себе с тех пор не напоминавшее и не оставившее реального следа, мы поступаем неосмотрительно: даже в обычной, повседневной жизни мы с радостью забываем подробности тяжелой болезни, от которой излечились, или закончившейся благополучно хирургической операции.
Действительность может искажаться не только в воспоминаниях: в целях самозащиты человек способен подменять факты и в реальном времени. В течение всего года заключения в Освенциме у меня был друг, почти брат, Альберто Д. Молодой, сильный, мужественный, умный, он скептически относился к тем, кто жил утешительными иллюзиями и обменивался ими с другими, например: «война через две недели закончится», «больше не будет селекций», «англичане высадились в Греции», «польские партизаны вот-вот освободят лагерь». Подобные слухи появлялись ежедневно и ничего общего с действительностью не имели. Альберто был депортирован в лагерь вместе с сорокапятилетним отцом. Перед большой селекцией в октябре 1944 года мы с Альберто говорили о предстоящем с ужасом, бессильным гневом, возмущением, смирением, но не искали спасения в иллюзиях. Селекция прошла, «старого» отца Альберто отобрали для отправки в газ, и Альберто изменился буквально на глазах. Он стал прислушиваться к новостям, способным хоть как-то обнадежить: русские уже близко, немцы больше не решатся на массовое истребление, последняя селекция была не такая, как все, отбирали не в газ, отбирали обессилевших, но еще способных оправиться, таких как его отец, который просто очень измучен, но не болен; больше того, известно даже, что их отправят в Явожно, совсем недалеко отсюда, там специальный лагерь для выздоравливающих, их используют только на легких работах.
Естественно, отца Альберто больше никто никогда не видел, а сам Альберто исчез на марше при эвакуации лагеря в январе 1945 года. Его родственники, которые прятались в Италии и остались живы, сами того не ведая, повели себя перед лицом непереносимой правды точно так же, как он: они создали для себя другую правду. Едва вернувшись, я счел своим долгом отправиться в родной город Альберто и рассказать его матери и брату все, что знал. Меня встретили с сердечным гостеприимством, но едва я приступил к рассказу, мать прервала меня: она уже все знает, по крайней мере, все, что касается Альберто, и не нужно повторять уже известные ей ужасы. Она знает, что ее сыну, единственному из всех, удалось незаметно отделиться от колонны и эсэсовцы его не расстреляли. Он спрятался в лесу и спасся, попав в руки русских. Пока у него просто не было возможности прислать весточку, но скоро он даст о себе знать, она в этом уверена. А теперь ей бы хотелось, чтобы я сменил тему и рассказал, как удалось выжить мне самому. Год спустя я снова оказался в этом городе и во второй раз навестил семью Альберто. За год «правда» слегка изменилась: Альберто в советской больнице, с ним все в порядке, но он потерял память, даже имени своего не помнит. Впрочем, он уже поправляется, еще немного и вернется домой, это известно из надежного источника.
Прошло больше сорока лет. Альберто так и не вернулся. Я больше не осмеливался показываться на глаза его близким со своей горькой правдой, столь отличной от той утешительной «правды», которую, поддерживая друг друга, выстроили они.
Глава III. Стыд
...В августе 1944 года в Освенциме стояла невыносимая жара. Знойный тропический ветер поднимал тучи пыли над разрушенными во время воздушных налетов зданиями, высушивал пот, сгущал в венах кровь. Мою бригаду отправили очищать какой-то подвал от обломков, и все умирали от жажды, нового мучения, которое прибавилось, нет, умножилось на старое — голод. Ни в лагере, ни в подвале не было питьевой воды; в те дни воды часто не было и в кранах умывален (пусть ее нельзя было пить, но можно было освежиться и смыть с себя пыль). Обычно для утоления жажды вполне хватало вечернего супа и утреннего эрзац-кофе, который раздавали около десяти утра. Но в такую жару этого не хватало, нас мучила нестерпимая жажда. Власть жажды сильнее власти голода: голод подчиняется эмоциям, иногда отступает, его могут на время заглушить боль, страх, другие чувства (мы это поняли, когда нас везли товарным поездом из Италии); другое дело — жажда, она не дает передышки. Голод изнуряет, а жажда сводит с ума. В те дни она преследовала нас днем и ночью: днем на стройке, где порядок (враждебный нам, но все-таки порядок, без которого еще недавно трудно было представить это место) превратился в хаос, и ночью в душных бараках, где мы судорожно глотали выдыхаемый сотнями ртов воздух.
Та часть подвала, куда капо направил меня убирать обломки, граничила с обширным помещением, занятым поврежденными химическими установками, которые не успели полностью смонтировать до начала бомбардировок. На стене я заметил вертикальную двухдюймовую трубу, а на ее конце, почти у самого пола, кран. Что было в этой трубе? Вода? Оглянулся — вокруг никого. Я попробовал открыть кран, его заело, но, воспользовавшись камнем вместо молотка, я смог повернуть его на несколько миллиметров.
Из крана закапало, я подставил руку: никакого запаха, да, похоже, вода. Собрать ее было не во что; капли падали под собственной тяжестью медленно, значит, труба была наполнена всего наполовину или того меньше. Оставив попытки открыть кран сильнее, я растянулся на земле и подставил под него рот. Нагретая солнцем безвкусная вода, то ли дистиллированная, то ли конденсат, показалась мне изумительной. Сколько воды может быть в двухдюймовой трубе длиной около двух метров? Литр или даже меньше. Я мог ее выпить всю сразу, это было бы надежней всего, а мог оставить немного на завтра. Или поделить ее поровну с Альберто. Или открыть секрет всей бригаде.
Я выбрал третий, эгоистический вариант (в пользу того, кто был мне ближе), который мой друг из далеких времен называл «своизмом». Мы выпили всю эту воду маленькими скупыми глотками, сменяя друг друга под краном. Только мы двое, тайно — я и Альберто. Возвращаясь в лагерь, я оказался рядом с Даниэле; увидев его, серого от цементной пыли, со спекшимися губами и лихорадочно блестевшими глазами, я почувствовал угрызения совести. Мы с Альберто переглянулись, и каждый прочел во взгляде другого: хорошо, что нас никто не видел. Но оказалось, что это не так: Даниэле заметил, как мы лежали на спине у стены среди обломков, и наши странные позы вызвали у него подозрение, а потом он обо всем догадался. Мне он сказал об этом с обидой спустя несколько месяцев после освобождения, в Белоруссии: «Почему вы двое пили, а я нет?» Это было возвращение к «гражданскому» моральному кодексу, тому самому, который заставляет меня, свободного сегодня человека, ужасаться смертному приговору избивавшему нас капо, вынесенному и приведенному в исполнение без права на апелляцию, тайно, с помощью обыкновенного ластика.
Оправдан ли мой запоздалый стыд? Я не смог понять это тогда, не могу понять и теперь, но стыд был и есть — реальный, постоянный, мучительный. Даниэле уже нет в живых, но пока мы виделись на наших теплых, братских встречах бывших узников, та история с каплями утаенной от него воды, хоть мы больше к этому и не возвращались, разделяла нас незримой стеной, и я бы дорого заплатил, чтобы ее не было.
Глава IV. Коммуникация
Человек некультурный (а гитлеровцы, и особенно эсэсовцы, были чудовищно некультурны, потому что никто их «не окультуривал», а если им что и прививали, то только плохое) не способен определить разницу между тем, кто не понимает его языка, и тем, кто вообще ничего не понимает.
Молодым нацистам вбивали в голову, что на свете существует всего одна цивилизация, немецкая, с остальными же, прошлыми и настоящими, можно смириться лишь в случае, если они несут в себе германские элементы. Вот почему, кто не понимал и не говорил по-немецки, считался варваром по определению, и, если он упорно продолжал объясняться на своем языке, точнее, не-языке, нужно было побоями заставить его замолчать, криком и понуканием напомнить ему, где его место, — ибо он не Mensch, не человеческое существо. Мне вспоминается один характерный эпизод. На стройке молодой капо, только что назначенный в состоящую главным образом из итальянцев, французов и греков команду, не заметил, как сзади к нему подошел один из самых свирепых эсэсовских надсмотрщиков. Обернувшись, он растерялся, потом встал по стойке «смирно» и доложил: «Восемьдесят третья команда, сорок два человека». От волнения он именно так и сказал: zweiundvierzig Mann («сорок два человека»). Эсэсовец поправил его с отеческой строгостью: так не говорят, нужно сказать zweiundvierzig Häftlinge («сорок два заключенных»). Он простил оплошность неопытному капо, но впредь тому следовало четче выполнять свою работу и не забывать, кто есть кто.
Положение «когда с тобой не разговаривают» быстро вело к гибели. Тому, кто с тобой не разговаривал, а орал что-то нечленораздельное, ты не осмеливался ответить. Хорошо, если на твое счастье рядом оказывался соплеменник и ты мог обменяться с ним своими впечатлениями, посоветоваться, излить душу, но, если вокруг не было никого, кто понял бы тебя, твой язык за несколько дней присыхал к гортани, а скоро пересыхали и мысли.
<…>
В памяти каждого выжившего (из тех, кто не знал или плохо знал другие языки) первые лагерные дни запечатлелись в виде смазанных, быстро мелькающих кадров, на которых бессмысленную суматоху сопровождают невнятные крики, и толпы растерянных существ без имен и лиц тонут в этом оглушительном шуме, откуда человеческие голоса не всплывают. Это черно-белые кадры звукового, но бессловесного фильма.
Я обратил внимание на одно любопытное явление, имеющее отношение к этой пустоте и к потребности в коммуникации: даже через сорок лет я и другие выжившие все еще помним на слух слова и фразы, звучавшие тогда вокруг нас на языках, которых мы не понимали и не научились понимать; для меня такими языками были польский и венгерский. До сих пор помню, как в одном бараке звучал по-польски номер — нет, не мой, а того заключенного, что значился в списке передо мной: длинная путаница звуков с мелодичным разрешением в конце, как произносимые скороговоркой детские считалки, что-то вроде «чтерджещи чтери» (сегодня я знаю, что эти слова означают «сорок четыре»). В том бараке и разливальщик супа, и большинство заключенных были поляки, поэтому польский служил там официальным языком. Когда выкрикивали наши номера, следовало стоять наготове с протянутой миской, поэтому, чтобы не прозевать свою очередь, надо было не пропустить, когда назовут номер того, кто стоит непосредственно перед тобой. Это «чтерджещи чтери», как колокольчик у собак Павлова, вызывало у меня условный рефлекс — немедленное слюноотделение.
Чужие слова записались в нашей памяти как на чистой, пустой магнитофонной ленте; так голодный желудок быстро усваивает даже неудобоваримую пищу. Мы запоминали эти слова не благодаря их смыслу (для нас они не имели смысла), тем не менее, когда спустя много лет мы повторяли их тем, кто мог их понять, оказывалось, что они обозначают самые простые, обычные вещи: угрозы, проклятья, расхожие фразы типа «который час», «я не могу идти», «оставь меня в покое». Это были разрозненные осколки среди непонятного, плод бесполезного и бессознательного усилия выделить смысл из бессмысленного, заглушить голод ума по примеру физиологического голода, заставлявшего нас ради насыщения шарить вокруг кухни в поисках картофельных очистков, которые все же лучше, чем ничего. Изголодавшийся мозг тоже мучается, только на свой лад.
Читать!
Примо Леви. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010
Перевод с итальянского Е. Дмитриевой
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3444098
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340536
- 3. Норильск. Май 1268368
- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897644
- 5. Закоротило 822058
- 6. Не может прожить без ирисок 781813
- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758341
- 8. Коблы и малолетки 740752
- 9. Затворник. Но пятипалый 470884
- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402851
- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370316
- 12. Винтаж на Болотной 343190