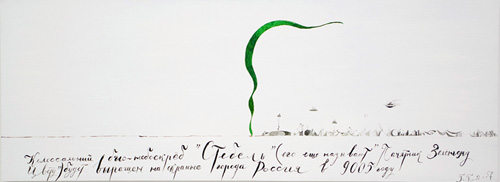После конца историцизма можно говорить о современности, о настоящем сколь угодно долго, будучи уверенным, что эта современность никогда не завершится.
Страницы:
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
Таким образом, после конца истории желание признания не исчезает, но принимает другую форму. В условиях историзма XIX и ХХ веков человек был готов жертвовать собой во имя признания историей, будущими поколениями. Человек надеялся на такое признание — и боялся негативного вердикта суда мировой истории. Сегодня человек ищет признания не в будущем, но в настоящем, и ищет признания не за исторические действия, но за историческое прошлое. Мы хотим гордиться своим историческим прошлым, но, конечно, гордиться можно только тем, что создал сам. Как я уже говорил, историческое прошлое становится искусственным продуктом, произведением искусства — вместо того чтобы быть рамой, горизонтом практики, включающей практику художественную. То же можно сказать о культурной идентичности, которая, как предполагается, унаследована от прошлого — она тоже становится модусом художественного самодизайна, придания себе формы.
Сегодня художники не ставят себя в контекст исторического времени, не думают о себе как о фигурах перехода между прошлым и будущим, как это было в случае исторического авангарда. Скорее современный художник сравнивает себя в первую очередь со своими современниками — с другими художниками, разделяющими с ним или с ней время существования, — и позиционирует свою практику в этом сравнении и через него. А самый простой и очевидный способ позиционировать свою художественную практику в глобальном контексте сравнения — это изобрести собственную историю.
Сегодня каждый художник начинает с того, что излагает свою историю. Она может быть версией универсальной истории, политической истории, этнической и культурной, истории личных травм и так далее. Таким образом, история начинает быть уже не тем, что объединяет людей, но тем, что дифференцирует и разделяет их, потому что каждый рассказывает — и вынужден это делать — особую, оригинальную, гетерогенную историю. Если дело обстоит иначе, а именно если он или она рассказывает ту же самую, уже известную историю, такой художник считается плохим или по крайней мере нерелевантным, неинтересным, неспособным придать себе интересную форму. В этом как раз и состоит главное различие между нашим временем и так называемым постмодерном. Наше время, как уже было сказано, не постисторическое, а метаисторическое. Быть мета-историческим не значит повторять модели прошлого, но переизобретать, переписывать саму историю, изобретая все новые и новые истории и идентичности.
Так возникает новое право человека — и это уже не право человека-животного (право на жизнь, на счастье и т.п.), но право человека-художника. Это право отрицать мир как он есть, не будучи обязанным легитимировать это отрицание предоставлением специфического плана, как изменить этот мир, особого видения будущего. Это право дать себе форму, дать себе идентичность в полностью суверенной, артистической манере — не в качестве протагониста некоего исторического нарратива, но в качестве творца такого нарратива. Ранние революции совершались для того, чтобы освободить человечество от его исторического прошлого, чтобы оно могло создать новое будущее. Сегодня революции совершаются, чтобы дать людям свободу переписать свое прошлое. Цель метаисторического субъекта — не суверенная власть над его или ее собственным будущим, но суверенная власть над прошлым.
Можно сказать, что сегодняшний мир стал ареной распространения этого нового права человека — прежде всего в искусстве и через искусство. Неслучайно, что почти сразу после конца советского социализма русские, китайские и многие восточноевропейские художники начали воссоздавать его визуальный мир. В этой художественной практике нужно видеть не запоздалую политическую критику, но и не выражение ностальгии по прошлому социалистическому порядку (остальгию), но просто манифестацию желания художников стать авторами своего собственного прошлого — и быть желанными, быть признанными современной арт-сценой в качестве творцов своей истории, чтобы гордиться своими творениями.
Коммунистическое прошлое можно рассматривать — и многие, по крайней мере в России, так и делают — как период идеологической колонизации России Западом, ведь корни марксизма, в конце концов, на Западе. Сегодня русские художники переписывают и переапроприируют советский коммунизм как часть своего собственного национального прошлого. Тема «бывший Запад» может быть воспринята как попытка Запада создать свое собственное прошлое — гораздо более трудная задача, конечно, поскольку Запад не пережил разрыва со своим историческим прошлым так остро и интенсивно, как Восток. Я бы сказал, что Запад в этом отношении завидует Востоку и хочет произвести такой разрыв хотя бы на концептуальном уровне — если это не случилось на уровне повседневного опыта.
Может создаться впечатление, что весь разговор об искусстве и правах художника адресуется только узкой и привилегированной аудитории. Однако в конце ХХ — начале XXI века искусство вошло в новую эру, а именно в эру массового художественного производства, которая последовала за эрой массового потребления, описанной многими влиятельными теоретиками модернизма как эра китча (Гринберг), «культурной индустрии» (Адорно) или «общества спектакля» (Дебор). Это была эра искусства, которое делалось для масс, хотело соблазнить массы, быть потребленным массами. Но новые средства производства и распределения образов и текстов сделали активное участие в искусстве более реальным для широких слоев населения. Снять фотографию или видео и разместить их в интернете стало простой операцией, доступной почти всякому. Эта доступность интернета является, кстати говоря, тоже эффектом конца холодной войны, поскольку интернет изначально предназначался для нужд военных и стал полностью рассекречен только после конца холодной войны. Современные средства коммуникации и социальные сети типа Facebook, MyFace, YouTube, Second Life и Twitter дают глобальному человечеству возможность показывать свои фотографии, видео и тексты так, что они малоотличимы от других постконцептуальных произведений искусства. Или, говоря другими словами, эти сети дают миллионам людей возможность придать себе прошлое, идентичность, форму. A это означает: современное искусство стало сегодня массовой культурной практикой.
Изобретение собственной истории и личности стало массовой практикой и даже массовым помешательством. Миллионы людей начали создавать свои архивы, показывать их другим, сравнивать их с чужими. Художественное право начинает проявлять себя как неотъемлемое право человека. Здесь стоит вспомнить Бойса, а именно его расширенное понятие искусства (erweiterter Kunstbegriff) и знаменитое утверждение «каждый человек — художник». Это утверждение уже в его время было ни в коей мере не пророчеством об утопическом будущем, скорее точным описанием status quo.
На самом деле уже классический авангард открыл бесконечное горизонтальное поле всех возможных пикториальных форм, выстроенных в ряд и наделенных равными эстетическими правами. Так называемые примитивные художественные формы, абстрактные формы и простые предметы повседневной жизни один за другим завоевали право на признание, которое раньше полагалось только исторически привилегированным художественным шедеврам. Это уравнивание художественных практик стало в течение ХХ века еще более заметно, когда образам массовой культуры, развлечений и кича был присвоен статус внутри традиционного контекста высокого искусства.
Художник при ancien régime намеревался создать шедевр — образ, который существовал бы сам по себе, суверенно, отличался бы от всех других образов в качестве визуализации уникальной истины. С другой стороны, в новейшее время (in modernity) художники начали представлять примеры бесконечной последовательности образов: в случае Кандинского — абстрактных, в случае Дюшана — реди-мейдов, в случае Уорхола — икон массовой культуры. Источник взрывного воздействия этих образов на нас не в их исключительности, но, напротив, в их способности быть всего лишь примерами потенциально бесконечного разнообразия образов. В этом смысле они представляют не только себя, но и указывают на неисчерпаемую массу образов, являясь одним из ее равноправных делегатов. Именно эта отсылка к бесконечному множеству исключенных образов придает индивидуальной художественной единице ее обаяние.
Следовательно, современный художник отсылает не к «вертикальной» бесконечности божественной истины, но к «горизонтальной» бесконечности равноценных образов. Искусство всегда имело дело с желанием стать объектом желания другого — с «желанием желания». Теперь авангард начала ХХ века может быть понят как борьба за признание всякой возможной художественной продукции или деятельности легитимным объектом желания. И эта борьба открыла также и возможность для каждого стать художником, или, точнее, понять себя в качестве художника.
Конечно, известно, что Гегель уже в самом начале своих лекций по эстетике провозгласил, что искусство есть дело прошлого. Он, в частности, доказывал, что в его время доминирует чистая мысль и рефлексия, так что современная жизнь не только не нуждается в образах для своей репрезентации, но и активно сопротивляется своему возможному загрязнению образами. Соответственно, в современных условиях искусство обречено на ничтожность — точнее, ничтожность искусства может быть единственной его темой.
Но этот гегелевский диагноз исторически обнаружил свою неверность. Современность со временем становится все более и более эстетизированной, театрализованной, дизайнированной.
Эта экспансия искусства в жизнь заставляла теоретиков русского формализма раннесоветского времени настаивать на так называемой «сделанности» искусства. Они понимали произведение искусства исключительно как материальный продукт, как вещь — по аналогии со всеми другими современными продуктами, такими как автомобили или самолеты. В этом смысле так называемый творческий труд художника ставился русскими формалистами на одну доску с любым другим индустриальным или неиндустриальным трудом. Таким образом, фигура художника радикально демократизировалась.
Конечно, труд понимался тут не только как труд ручной, но и как труд по переносу, перепозиционированию, переконтекстуализации определенного объекта или определенной художественной практики. Даже акт отказа от труда, воздержания от него понимался русскими формалистами как род труда (нулевой труд). Но, что еще более важно, русские формалисты интерпретировали повседневную деятельность и практику тоже как род художественной практики, цель которой дать индивидууму, в них участвующему, определенную форму, определенное очертание. Таким образом, русские формалисты изымали искусство из специфической сферы эстетического созерцания и понимали его как трудовой процесс, который задействовал не только профессиональных художников, но на самом деле всю популяцию людей новейшего времени. Позднее эту идею переформулировал Клемент Гринберг. В своем эссе «Состояние культуры» (The Plight of Culture, 1953) Гринберг пишет: «Единственное решение для культуры, которое в этих условиях (когда серьезное искусство буржуазией брошено, и это вызвало закат культуры. — Б.Г.) видится мне возможным — это перенести центр тяжести с досуга и поместить его в центр труда». Однако Гринберг при этом добавляет: «Я здесь предлагаю нечто, последствий чего не могу вообразить».
Ну что же, сейчас мы живем как раз в обществе, которого Гринберг не был в состоянии вообразить. Сегодня художественная деятельность — это то, что художник делит со своей публикой так же, как раньше он или она делили ее с религией или политикой. Быть художником перестало быть исключительной судьбой — напротив, это стало типичным для общества в целом на его самом интимном, повседневном уровне.
Труд, включая труд художника, есть не что иное, как инвестиция времени — настоящего времени, времени жизни субъекта — в другое время, а именно во время отсутствия этого субъекта. Таким временем отсутствия субъекта является будущее; но им же является и прошлое. В обоих случаях настоящее функционирует исключительно как место производства — для производства будущего или прошлого. В рамках традиционного историцизма настоящее понималось как точка перехода между прошлым и будущим, как неуловимый момент, который нельзя схватить — как точка слепоты, можно сказать. Но в метаисторических условиях переход от прошлого к будущему просто никогда не происходит — прошлое, будучи постоянно переписываемо, не может закончиться, не может быть преодолено. А это означает, что настоящее становится неопределенно растянутым временем, которое никогда не кончается, поскольку переход от прошлого к будущему не совершается. Вот почему сегодня все говорят о современном искусстве, строят музеи современного искусства и т.д. — после конца историцизма можно говорить о современности, о настоящем сколь угодно долго, будучи уверенным, что эта современность никогда не завершится. Вечное настоящее, о котором говорил Кожев, распространяется в обе стороны. Так что мы действительно можем сегодня создать бывший Запад, так же как пересмотрели и переизобрели бывший Восток.
Последняя моя ремарка на тему конца истории относится не к прошлому, но к будущему. Исторически будущее понималось как нечто, приходящее после радикального разрыва с прошлым. Сегодня будущее понимается как нечто, что с нами случается и чему мы должны сопротивляться во имя продолжения определенного прошлого. Например, Ален Бадью, среди прочих влиятельных авторов европейской левой мысли, понимает революционную мысль и практику не как результат разрыва с прошлым, но как выражение приверженности, верности состоявшемуся в прошлом революционному событию — даже если это событие эмпирически, возможно, не имело места. Неслучайно Бадью сравнивает свою собственную приверженность коммунизму с отношением святого Павла к христианству.
В самом деле, уже кожевская версия конца истории была навеяна текстами русского религиозного философа Владимира Соловьева, для которого явление Христа, то есть приход Логоса в мир, было моментом окончания мировой истории. И который верил также в то, что лично встречался с божественной Софией — и был любим ею — так что его философская жажда (жажда мудрости, жажда Софии) была уже утолена. Разумеется, для Кожева, который с гордостью называл себя радикальным атеистом, место Христа занимает Наполеон. На протяжении своего «Введения» Кожев неоднократно настаивает на том, что философский дискурс Гегеля должен быть в первую очередь понят как род философского комментария к исторической миссии Наполеона. Наполеон был человеком действия, который ввел новый универсальный и гомогенный порядок в конце европейской истории, но который не понял смысла своих собственных действий. Историческую роль Наполеона понял Гегель, который, таким образом, сыграл роль самосознания Наполеона. В том же смысле Кожев понимал себя в качестве самосознания Сталина, который повторил исторические поступки Наполеона, введя универсальное и гомогенное государство в России. Кожев поэтому полагал, что его собственное повторение гегелевской феноменологии духа было вызвано повторением поступков Наполеона Сталиным.
Конечно, оба правителя чаще сравнивались с Антихристом, чем с Христом. Но для кожевской атеистической перспективы разница между Антихристом и Христом, которая была столь важна для Достоевского и Соловьева, утратила свою значимость. Поэтому Кожев может повторять Соловьева, который представляет свой собственный философский дискурс в качестве самосознания византийского христианства — вне различий между теологией и философией, между Библией и «Феноменологией духа». Для Кожева любой конец истории повторяет иные концы истории. Свою собственную роль он интерпретирует как роль Мудреца.
Мудрец — не философ, который ищет и желает будущего признания истиной, Софией. Философ влюблен в мудрость, в Софию, но он, увы, никогда не встречался с ней в прошлом, не был ею любим и надеется встретить ее в будущем, при более благоприятных обстоятельствах. Роль же Мудреца, по Кожеву, состоит в том, чтобы защищать человечество от философского желания или желания, направленного в будущее. Но даже Мудрец не может защитить человечество от желания, направленного в прошлое, — от создания исторического нарратива, в котором встреча с Софией уже имела место, так что философу остается быть верным событию этой встречи.
Перевод с английского Екатерины Дёготь
Сегодня художники не ставят себя в контекст исторического времени, не думают о себе как о фигурах перехода между прошлым и будущим, как это было в случае исторического авангарда. Скорее современный художник сравнивает себя в первую очередь со своими современниками — с другими художниками, разделяющими с ним или с ней время существования, — и позиционирует свою практику в этом сравнении и через него. А самый простой и очевидный способ позиционировать свою художественную практику в глобальном контексте сравнения — это изобрести собственную историю.
Сегодня каждый художник начинает с того, что излагает свою историю. Она может быть версией универсальной истории, политической истории, этнической и культурной, истории личных травм и так далее. Таким образом, история начинает быть уже не тем, что объединяет людей, но тем, что дифференцирует и разделяет их, потому что каждый рассказывает — и вынужден это делать — особую, оригинальную, гетерогенную историю. Если дело обстоит иначе, а именно если он или она рассказывает ту же самую, уже известную историю, такой художник считается плохим или по крайней мере нерелевантным, неинтересным, неспособным придать себе интересную форму. В этом как раз и состоит главное различие между нашим временем и так называемым постмодерном. Наше время, как уже было сказано, не постисторическое, а метаисторическое. Быть мета-историческим не значит повторять модели прошлого, но переизобретать, переписывать саму историю, изобретая все новые и новые истории и идентичности.
Так возникает новое право человека — и это уже не право человека-животного (право на жизнь, на счастье и т.п.), но право человека-художника. Это право отрицать мир как он есть, не будучи обязанным легитимировать это отрицание предоставлением специфического плана, как изменить этот мир, особого видения будущего. Это право дать себе форму, дать себе идентичность в полностью суверенной, артистической манере — не в качестве протагониста некоего исторического нарратива, но в качестве творца такого нарратива. Ранние революции совершались для того, чтобы освободить человечество от его исторического прошлого, чтобы оно могло создать новое будущее. Сегодня революции совершаются, чтобы дать людям свободу переписать свое прошлое. Цель метаисторического субъекта — не суверенная власть над его или ее собственным будущим, но суверенная власть над прошлым.
Можно сказать, что сегодняшний мир стал ареной распространения этого нового права человека — прежде всего в искусстве и через искусство. Неслучайно, что почти сразу после конца советского социализма русские, китайские и многие восточноевропейские художники начали воссоздавать его визуальный мир. В этой художественной практике нужно видеть не запоздалую политическую критику, но и не выражение ностальгии по прошлому социалистическому порядку (остальгию), но просто манифестацию желания художников стать авторами своего собственного прошлого — и быть желанными, быть признанными современной арт-сценой в качестве творцов своей истории, чтобы гордиться своими творениями.
Коммунистическое прошлое можно рассматривать — и многие, по крайней мере в России, так и делают — как период идеологической колонизации России Западом, ведь корни марксизма, в конце концов, на Западе. Сегодня русские художники переписывают и переапроприируют советский коммунизм как часть своего собственного национального прошлого. Тема «бывший Запад» может быть воспринята как попытка Запада создать свое собственное прошлое — гораздо более трудная задача, конечно, поскольку Запад не пережил разрыва со своим историческим прошлым так остро и интенсивно, как Восток. Я бы сказал, что Запад в этом отношении завидует Востоку и хочет произвести такой разрыв хотя бы на концептуальном уровне — если это не случилось на уровне повседневного опыта.
Может создаться впечатление, что весь разговор об искусстве и правах художника адресуется только узкой и привилегированной аудитории. Однако в конце ХХ — начале XXI века искусство вошло в новую эру, а именно в эру массового художественного производства, которая последовала за эрой массового потребления, описанной многими влиятельными теоретиками модернизма как эра китча (Гринберг), «культурной индустрии» (Адорно) или «общества спектакля» (Дебор). Это была эра искусства, которое делалось для масс, хотело соблазнить массы, быть потребленным массами. Но новые средства производства и распределения образов и текстов сделали активное участие в искусстве более реальным для широких слоев населения. Снять фотографию или видео и разместить их в интернете стало простой операцией, доступной почти всякому. Эта доступность интернета является, кстати говоря, тоже эффектом конца холодной войны, поскольку интернет изначально предназначался для нужд военных и стал полностью рассекречен только после конца холодной войны. Современные средства коммуникации и социальные сети типа Facebook, MyFace, YouTube, Second Life и Twitter дают глобальному человечеству возможность показывать свои фотографии, видео и тексты так, что они малоотличимы от других постконцептуальных произведений искусства. Или, говоря другими словами, эти сети дают миллионам людей возможность придать себе прошлое, идентичность, форму. A это означает: современное искусство стало сегодня массовой культурной практикой.
Изобретение собственной истории и личности стало массовой практикой и даже массовым помешательством. Миллионы людей начали создавать свои архивы, показывать их другим, сравнивать их с чужими. Художественное право начинает проявлять себя как неотъемлемое право человека. Здесь стоит вспомнить Бойса, а именно его расширенное понятие искусства (erweiterter Kunstbegriff) и знаменитое утверждение «каждый человек — художник». Это утверждение уже в его время было ни в коей мере не пророчеством об утопическом будущем, скорее точным описанием status quo.
На самом деле уже классический авангард открыл бесконечное горизонтальное поле всех возможных пикториальных форм, выстроенных в ряд и наделенных равными эстетическими правами. Так называемые примитивные художественные формы, абстрактные формы и простые предметы повседневной жизни один за другим завоевали право на признание, которое раньше полагалось только исторически привилегированным художественным шедеврам. Это уравнивание художественных практик стало в течение ХХ века еще более заметно, когда образам массовой культуры, развлечений и кича был присвоен статус внутри традиционного контекста высокого искусства.
Художник при ancien régime намеревался создать шедевр — образ, который существовал бы сам по себе, суверенно, отличался бы от всех других образов в качестве визуализации уникальной истины. С другой стороны, в новейшее время (in modernity) художники начали представлять примеры бесконечной последовательности образов: в случае Кандинского — абстрактных, в случае Дюшана — реди-мейдов, в случае Уорхола — икон массовой культуры. Источник взрывного воздействия этих образов на нас не в их исключительности, но, напротив, в их способности быть всего лишь примерами потенциально бесконечного разнообразия образов. В этом смысле они представляют не только себя, но и указывают на неисчерпаемую массу образов, являясь одним из ее равноправных делегатов. Именно эта отсылка к бесконечному множеству исключенных образов придает индивидуальной художественной единице ее обаяние.
Следовательно, современный художник отсылает не к «вертикальной» бесконечности божественной истины, но к «горизонтальной» бесконечности равноценных образов. Искусство всегда имело дело с желанием стать объектом желания другого — с «желанием желания». Теперь авангард начала ХХ века может быть понят как борьба за признание всякой возможной художественной продукции или деятельности легитимным объектом желания. И эта борьба открыла также и возможность для каждого стать художником, или, точнее, понять себя в качестве художника.
Конечно, известно, что Гегель уже в самом начале своих лекций по эстетике провозгласил, что искусство есть дело прошлого. Он, в частности, доказывал, что в его время доминирует чистая мысль и рефлексия, так что современная жизнь не только не нуждается в образах для своей репрезентации, но и активно сопротивляется своему возможному загрязнению образами. Соответственно, в современных условиях искусство обречено на ничтожность — точнее, ничтожность искусства может быть единственной его темой.
Но этот гегелевский диагноз исторически обнаружил свою неверность. Современность со временем становится все более и более эстетизированной, театрализованной, дизайнированной.
Эта экспансия искусства в жизнь заставляла теоретиков русского формализма раннесоветского времени настаивать на так называемой «сделанности» искусства. Они понимали произведение искусства исключительно как материальный продукт, как вещь — по аналогии со всеми другими современными продуктами, такими как автомобили или самолеты. В этом смысле так называемый творческий труд художника ставился русскими формалистами на одну доску с любым другим индустриальным или неиндустриальным трудом. Таким образом, фигура художника радикально демократизировалась.
Конечно, труд понимался тут не только как труд ручной, но и как труд по переносу, перепозиционированию, переконтекстуализации определенного объекта или определенной художественной практики. Даже акт отказа от труда, воздержания от него понимался русскими формалистами как род труда (нулевой труд). Но, что еще более важно, русские формалисты интерпретировали повседневную деятельность и практику тоже как род художественной практики, цель которой дать индивидууму, в них участвующему, определенную форму, определенное очертание. Таким образом, русские формалисты изымали искусство из специфической сферы эстетического созерцания и понимали его как трудовой процесс, который задействовал не только профессиональных художников, но на самом деле всю популяцию людей новейшего времени. Позднее эту идею переформулировал Клемент Гринберг. В своем эссе «Состояние культуры» (The Plight of Culture, 1953) Гринберг пишет: «Единственное решение для культуры, которое в этих условиях (когда серьезное искусство буржуазией брошено, и это вызвало закат культуры. — Б.Г.) видится мне возможным — это перенести центр тяжести с досуга и поместить его в центр труда». Однако Гринберг при этом добавляет: «Я здесь предлагаю нечто, последствий чего не могу вообразить».
Ну что же, сейчас мы живем как раз в обществе, которого Гринберг не был в состоянии вообразить. Сегодня художественная деятельность — это то, что художник делит со своей публикой так же, как раньше он или она делили ее с религией или политикой. Быть художником перестало быть исключительной судьбой — напротив, это стало типичным для общества в целом на его самом интимном, повседневном уровне.
Труд, включая труд художника, есть не что иное, как инвестиция времени — настоящего времени, времени жизни субъекта — в другое время, а именно во время отсутствия этого субъекта. Таким временем отсутствия субъекта является будущее; но им же является и прошлое. В обоих случаях настоящее функционирует исключительно как место производства — для производства будущего или прошлого. В рамках традиционного историцизма настоящее понималось как точка перехода между прошлым и будущим, как неуловимый момент, который нельзя схватить — как точка слепоты, можно сказать. Но в метаисторических условиях переход от прошлого к будущему просто никогда не происходит — прошлое, будучи постоянно переписываемо, не может закончиться, не может быть преодолено. А это означает, что настоящее становится неопределенно растянутым временем, которое никогда не кончается, поскольку переход от прошлого к будущему не совершается. Вот почему сегодня все говорят о современном искусстве, строят музеи современного искусства и т.д. — после конца историцизма можно говорить о современности, о настоящем сколь угодно долго, будучи уверенным, что эта современность никогда не завершится. Вечное настоящее, о котором говорил Кожев, распространяется в обе стороны. Так что мы действительно можем сегодня создать бывший Запад, так же как пересмотрели и переизобрели бывший Восток.
Последняя моя ремарка на тему конца истории относится не к прошлому, но к будущему. Исторически будущее понималось как нечто, приходящее после радикального разрыва с прошлым. Сегодня будущее понимается как нечто, что с нами случается и чему мы должны сопротивляться во имя продолжения определенного прошлого. Например, Ален Бадью, среди прочих влиятельных авторов европейской левой мысли, понимает революционную мысль и практику не как результат разрыва с прошлым, но как выражение приверженности, верности состоявшемуся в прошлом революционному событию — даже если это событие эмпирически, возможно, не имело места. Неслучайно Бадью сравнивает свою собственную приверженность коммунизму с отношением святого Павла к христианству.
В самом деле, уже кожевская версия конца истории была навеяна текстами русского религиозного философа Владимира Соловьева, для которого явление Христа, то есть приход Логоса в мир, было моментом окончания мировой истории. И который верил также в то, что лично встречался с божественной Софией — и был любим ею — так что его философская жажда (жажда мудрости, жажда Софии) была уже утолена. Разумеется, для Кожева, который с гордостью называл себя радикальным атеистом, место Христа занимает Наполеон. На протяжении своего «Введения» Кожев неоднократно настаивает на том, что философский дискурс Гегеля должен быть в первую очередь понят как род философского комментария к исторической миссии Наполеона. Наполеон был человеком действия, который ввел новый универсальный и гомогенный порядок в конце европейской истории, но который не понял смысла своих собственных действий. Историческую роль Наполеона понял Гегель, который, таким образом, сыграл роль самосознания Наполеона. В том же смысле Кожев понимал себя в качестве самосознания Сталина, который повторил исторические поступки Наполеона, введя универсальное и гомогенное государство в России. Кожев поэтому полагал, что его собственное повторение гегелевской феноменологии духа было вызвано повторением поступков Наполеона Сталиным.
Конечно, оба правителя чаще сравнивались с Антихристом, чем с Христом. Но для кожевской атеистической перспективы разница между Антихристом и Христом, которая была столь важна для Достоевского и Соловьева, утратила свою значимость. Поэтому Кожев может повторять Соловьева, который представляет свой собственный философский дискурс в качестве самосознания византийского христианства — вне различий между теологией и философией, между Библией и «Феноменологией духа». Для Кожева любой конец истории повторяет иные концы истории. Свою собственную роль он интерпретирует как роль Мудреца.
Мудрец — не философ, который ищет и желает будущего признания истиной, Софией. Философ влюблен в мудрость, в Софию, но он, увы, никогда не встречался с ней в прошлом, не был ею любим и надеется встретить ее в будущем, при более благоприятных обстоятельствах. Роль же Мудреца, по Кожеву, состоит в том, чтобы защищать человечество от философского желания или желания, направленного в будущее. Но даже Мудрец не может защитить человечество от желания, направленного в прошлое, — от создания исторического нарратива, в котором встреча с Софией уже имела место, так что философу остается быть верным событию этой встречи.
Перевод с английского Екатерины Дёготь
Страницы:
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
Ссылки
КомментарииВсего:8
Комментарии
-
Мысль Кожева насчёт того, что эволюция уводит человека от животного состояния, а революции возвращают его обратно к состоянию животного мне показалась очень интересной.
-
этот текст был произнесен по-русски?
-
а прошу прощения - из-за сбоя не заметил обозначения перевода
- 29.06Московская биеннале молодого искусства откроется 11 июля
- 28.06«Райские врата» Гиберти вновь откроются взору публики
- 27.06Гостем «Архстояния» будет Дзюнья Исигами
- 26.06Берлинской биеннале управляет ассамблея
- 25.06Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3444125
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2340543
- 3. Норильск. Май 1268405
- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897651
- 5. Закоротило 822067
- 6. Не может прожить без ирисок 781860
- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758456
- 8. Коблы и малолетки 740782
- 9. Затворник. Но пятипалый 470972
- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 402903
- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370334
- 12. Винтаж на Болотной 343203